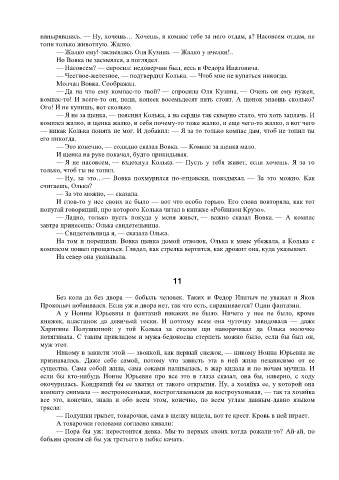Page 42 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 42
нанырявшись. — Ну, хочешь… Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, не
топи только животную. Жалко.
— Жалко ему!-засмеялась Оля Кузина. — Жалко у пчелки!..
Но Вовка не засмеялся, а поглядел.
— Насовсем? — спросил: недоверчив был, весь в Федора Ипатовича.
— Честное-железное, — подтвердил Колька. — Чтоб мне не купаться никогда.
Молчал Вовка. Соображал.
— Да на что ему компас-то твой? — спросила Оля Кузина. — Очень он ему нужен,
компас-то! И всего-то он, поди, копеек восемьдесят пять стоит. А щенок знаешь сколько?
Ого! И не купишь, вот сколько.
— Я не за щенка, — пояснил Колька, а на сердце так скверно стало, что хоть заплачь. И
компаса жалко, и щенка жалко, и себя почему-то тоже жалко, и еще чего-то жалко, а вот чего
— никак Колька понять не мог. И добавил: — Я за то только компас дам, чтоб не топил ты
его никогда.
— Это конечно, — солидно сказал Вовка. — Компас за щенка мало.
И щенка на руке покачал, будто прикидывая.
— Я не насовсем, — вздохнул Колька. — Пусть у тебя живет, если хочешь. Я за то
только, чтоб ты не топил.
— Ну, за это…— Вовка похмурился по-отцовски, повздыхал. — За это можно. Как
считаешь, Олька?
— За это можно, — сказала.
И слов-то у нее своих не было — вот что особо горько. Его слова повторяла, как тот
попугай говорящий, про которого Колька читал в книжке «Робинзон Крузо».
— Ладно, только пусть покуда у меня живет, — важно сказал Вовка. — А компас
завтра принесешь: Олька свидетельница.
— Свидетельница я, — сказала Олька.
На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька к маме убежала, а Колька с
компасом пошел прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает.
На север она указывала.
11
Без кола да без двора — бобыль человек. Таких и Федор Ипатыч не уважал и Яков
Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается? Одни фантазии.
А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме
книжек, пластинок да девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала — даже
Харитине Полушкиной: у той Колька за столом щи наворачивал да Олька молочко
потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он,
муж этот.
Никому в зависти этой — звонкой, как первый снежок, — никому Нонна Юрьевна не
признавалась. Даже себе самой, потому что зависть эта в ней жила независимо от ее
существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. И
если бы кто-нибудь Нонне Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверно, с ходу
окочурилась. Кондратий бы ее хватил от такого открытия. Ну, а хозяйка ее, у которой она
комнату снимала — востроносенькая, востроглазенькая да востроухонькая, — так та хозяйка
все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам давным-давно языком
трясла:
— Подушки грызет, товарочки, сама в щелку видела, вот те крест. Кровь в ней играет.
А товарочки головами согласно кивали:
— Пора бы уж: перестоится девка. Мы-то первых своих когда рожали-то? Ай-ай, по
бабьим срокам ей бы уж третьего в зыбке качать.