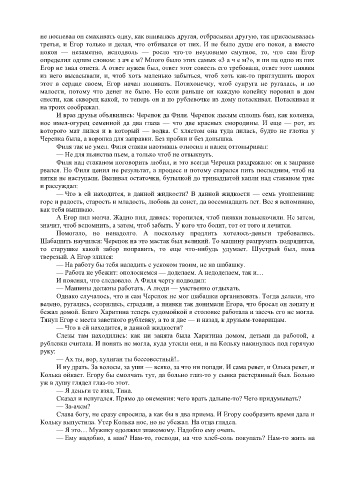Page 39 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 39
не поспевал он смахивать одну, как впивалась другая, отбрасывал другую, так присасывалась
третья, и Егор только и делал, что отбивался от них. И не было душе его покоя, а вместо
покоя — незаметно, исподволь — росло что-то неуловимо смутное, то, что сам Егор
определил одним словом: з ач е м? Много было этих самых «3 а ч е м?», и ни на одно из них
Егор не знал ответа. А ответ нужен был, ответ этот совесть его требовала, ответ этот пиявки
из него высасывали, и, чтоб хоть маленько забыться, чтоб хоть как-то приглушить шорох
этот в сердце своем, Егор начал попивать. Потихонечку, чтоб супруга не ругалась, и по
малости, потому что денег не было. Но если раньше он каждую копейку норовил в дом
снести, как скворец какой, то теперь он и по рублевочке из дому потаскивал. Потаскивал и
на троих соображал.
И враз друзья объявились: Черепок да Филя. Черепок лысым сплошь был, как коленка,
нос имел-огурец семенной да два глаза — что две красных смородины. И еще — рот, из
которого мат лился и в который — водка. С хлястом она туда лилась, будто не глотка у
Черепка была, а воронка для заправки. Без пробки и без донышка.
Филя так не умел. Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал:
— Не для пьянства пьем, а только чтоб не отвыкнуть.
Филя над стаканом поговорить любил, и это всегда Черепка раздражало: он к заправке
рвался. Но Филя ценил не результат, а процесс и потому старался пить последним, чтоб на
пятки не наступали. Выливал остаточки, бутылкой до тринадцатой капли над стаканом тряс
и рассуждал:
— Что в ей находится, в данной жидкости? В данной жидкости — семь утопленниц:
горе и радость, старость и младость, любовь да сонет, да восемнадцать лет. Все я вспоминаю,
как тебя выпиваю.
А Егор пил молча. Жадно пил, давясь: торопился, чтоб пиявки повыскочили. Не затем,
значит, чтоб вспомнить, а затем, чтоб забыть. У кого что болит, тот от того и лечится.
Помогало, но ненадолго. А поскольку продлить хотелось-деньги требовались.
Шабашить научился: Черепок на это мастак был великий. То машину разгрузить подрядится,
то старушке какой забор поправить, то еще что-нибудь удумает. Шустрый был, пока
тверезый. А Егор злился:
— На работу бы тебя наладить с ускоком твоим, не на шабашку.
— Работа не убежит: ополоснемся — доделаем. А недоделаем, так и…
И пояснял, что следовало. А Филя черту подводил:
— Машины должны работать. А люди — умственно отдыхать.
Однако случалось, что и сам Черепок не мог шабашки организовать. Тогда делали, что
велено, ругались, ссорились, страдали, а пиявки так донимали Егора, что бросал он лопату и
бежал домой. Благо Харитина теперь судомойкой в столовке работала и засечь его не могла.
Тянул Егор с места заветного рублевку, а то и две — и назад, к друзьям-товарищам.
— Что в ей находится, в данной жидкости?
Слезы там находились: как ни занята была Харитина домом, детьми да работой, а
рублевки считала. И понять не могла, куда утекли они, и на Кольку накинулась под горячую
руку:
— Ах ты, вор, хулиган ты бессовестный!..
И ну драть. За волосы, за уши — всяко, за что ни попади. И сама ревет, и Олька ревет, и
Колька ойкает. Егору бы смолчать тут, да больно глаз-то у сынка растерянный был. Больно
уж в душу глядел глаз-то этот.
— Я деньги те взял, Тина.
Сказал и испугался. Прямо до онемения: чего врать дальше-то? Чего придумывать?
— За-ачем?
Слава богу, не сразу спросила, а как бы в два приема. И Егору сообразить время дала и
Кольку выпустила. Утер Колька нос, но не убежал. На отца глядел.
— Я это… Мужику одолжил знакомому. Надобно ему очень.
— Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-то жить на