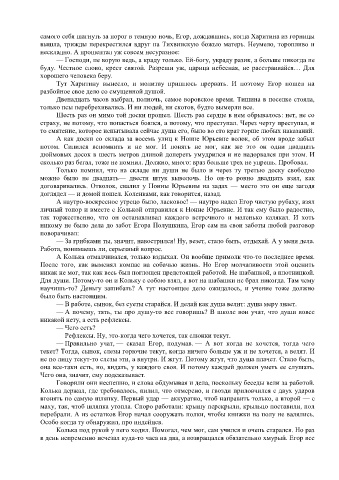Page 51 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 51
самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы
вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую божью матерь. Неумело, торопливо и
нескладно. А прошептал уж совсем несуразное:
— Господи, не ворую ведь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше никогда не
буду. Честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся… Для
хорошего человека беру.
Тут Харитину вынесло, и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на
разбойное свое дело со смущенной душой.
Двенадцать часов выбрал, полночь, самое воровское время. Тишина в поселке стояла,
только псы перебрехивались. И ни людей, ни скотов, будто вымерли все.
Шесть раз он мимо той доски прошел. Шесть раз сердце в нем обрывалось: нет, не со
страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что преступал. Через черту преступал, и
то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний.
А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл
потом. Силился вспомнить и не мог. И понять не мог, как же это он одни двадцать
дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при этом. И
сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трех не упрешь. Пробовал.
Только помнил, что на складе ни души не было и через ту третью доску свободно
можно было не двадцать— двести штук выволочь. Но он-то ровно двадцать взял, как
договаривались. Отволок, свалил у Нонны Юрьевны на задах — место это он еще загодя
доглядел — и домой пошел. Коленками, как говорится, назад.
А наутро-воскресное утрецо было, ласковое! — наутро надел Егор чистую рубаху, взял
личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно,
так торжественно, что он останавливал каждого встречного и маленько калякал. И хоть
никому не было дела до забот Егора Полушкипа, Егор сам на свои заботы любой разговор
поворачивал:
— За грибками ты, значит, навострился! Ну, везет, стало быть, отдыхай. А у меня дела.
Работа, понимаешь ли, серьезный вопрос.
А Колька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще примолк что-то последнее время.
После того, как выменял компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить
никак не мог, так как весь был поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой.
Для души. Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. Там чему
научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело ожидалось, и учение тоже должно
было быть настоящим.
— В работе, сынок, без суеты старайся. И делай как душа велит: душа меру знает.
— А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе
никакой нету, а есть рефлексы.
— Чего есть?
— Рефлексы. Ну, это-когда чего хочется, так слюнки текут.
— Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего
текет? Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И
не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть,
она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому каждый должен уметь ее слушать.
Чего она, значит, ему подсказывает.
Говорили они неспешно, и слова обдумывая и дела, поскольку беседы вели за работой.
Колька держал, где требовалось, пилил, что отмерено, и гвозди приловчился с двух ударов
вгонять по самую шляпку. Первый удар — аккуратно, чтоб направить только, а второй — с
маху, так, чтоб шляпка утопла. Споро работали: крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол
перебрали. А из остатков Егор начал сооружать полки, чтобы книжки на полу не валялись.
Особо когда ту обнаружил, про индейцев.
Колька под рукой у него ходил. Помогал, чем мог, сам учился и очень старался. Но раз
в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все