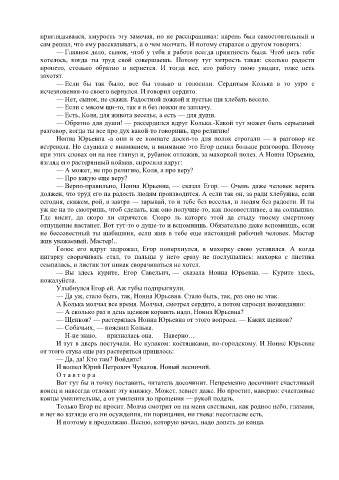Page 52 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 52
приглядывался, хмурость эту замечая, но не расспрашивал: парень был самостоятельный и
сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить:
— Главное дело, сынок, чтоб у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе
хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая: сколько радости
пропето, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь
захотят.
— Если бы так было, все бы только и голосили. Сердитым Колька в то утро с
исчезновения-то своего вернулся. И говорил сердито.
— Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело.
— Если с мясом щи-то, так я и без ложки не заплачу.
— Есть, Коля, для живота веселье, а есть — для души.
— Обратно для души! — рассердился вдруг Колька.-Какой тут может быть серьезный
разговор, когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию!
Нонна Юрьевна -а они в ее комнате доски-то для полок строгали — в разговор не
встревала. Но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому
при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна,
взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг:
— А может, не про религию, Коля, а про веру?
— Про какую еще веру?
— Верно-правильно, Нонна Юрьевна, — сказал Егор. — Очень даже человек верить
должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, за ради хлебушка, если
сегодня, скажем, рой, а завтра — зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. И ты
уж не на то смотришь, чтоб сделать, как оно получше-то, как посовестливее, а на солнышко.
Где висит, да скоро ли спрячется. Скоро ль каторге этой да стыду твоему смертному
отпущение настанет. Вот тут-то о душе-то и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если
не бессовестный ты шабашник, если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер
жив уважаемый. Мастер!..
Голос его вдруг задрожал, Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда
цигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не послушались: махорка с листика
ссыпалась, и листик тот никак сворачиваться не хотел.
— Вы здесь курите, Егор Савельич, — сказала Нонна Юрьевна. — Курите здесь,
пожалуйста.
Улыбнулся Егор ей. Аж губы подпрыгнули.
— Да уж, стало быть, так, Нонна Юрьевна. Стало быть, так, раз оно не этак.
А Колька молчал все время. Молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно:
— А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна?
— Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса. — Каких щенков?
— Собачьих, — пояснил Колька.
— Н-не знаю, — призналась она. — Наверно…
И тут в дверь постучали. Не кулаком: костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне
от этого стука еще раз растеряться пришлось:
— Да, да! Кто там? Войдите!
И вошел Юрий Петрович Чувалов. Новый лесничий.
О т а в т о р а
Вот тут бы и точку поставить, читатель досочинит. Непременно досочинит счастливый
конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но простит, наверно: счастливые
концы умилительны, а от умиления до прощения — рукой подать.
Только Егор не просит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами,
и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева: несогласие есть.
И поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо допеть до конца.