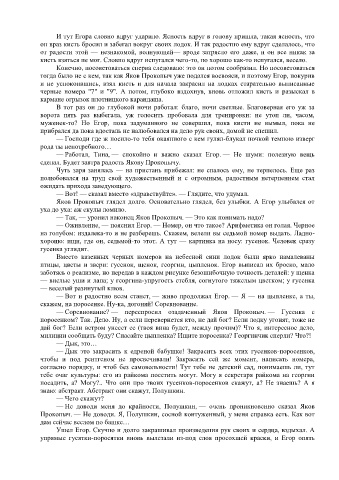Page 14 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 14
И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что
он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что
от радости этой — незнакомой, волнующей— вроде затрясло его даже, и он все никак за
кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.
Конечно, посоветоваться сперва следовало: это он потом сообразил. Но посоветоваться
тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покурив
и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные
черные номера "7" и "9". А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в
кармане огрызок плотницкого карандаша.
В тот раз он до глубокой ночи работал: благо, ночи светлые. Благоверная его уж за
ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли, часом,
муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не
прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.
— Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночкой темною изверг
рода ты непотребного…
— Работал, Тина, — спокойно и важно сказал Егор. — Не шуми: полезную вещь
сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.
Чуть заря занялась — на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз
полюбовался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал
ожидать прихода заведующего.
— Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Глядите, что удумал.
Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от
уха до уха: аж скулы ломило.
— Так, — уронил наконец Яков Прокопыч. — Это как понимать надо?
— Оживление, — пояснил Егор. — Номер, он что такое? Арифметика он голая. Черное
на голубом: издалека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-
хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут — картинка на носу: гусенок. Человек сразу
гусенка углядит.
Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны
птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало
заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка
— вислые уши и лапа; у георгина-упругость стебля, согнутого тяжелым цветком; у гусенка
— веселый разинутый клюв.
— Вот и радостно всем станет, — живо продолжал Егор. — Я — на цыпленке, а ты,
скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.
— Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокоиыч. — Гусенка с
поросенком? Так. Дело. Ну, а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не
дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело,
милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!
— Дык, это…
— Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков,
чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера,
согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут
тебе очаг культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин
посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я
знаю: абстракт. Абстракт они скажут, Полушкин.
— Чего скажут?
— Не доводи меня до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков
Прокопыч. — Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот
дам сейчас веслом по башке…
Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А
упрямые гусятки-поросятки вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять