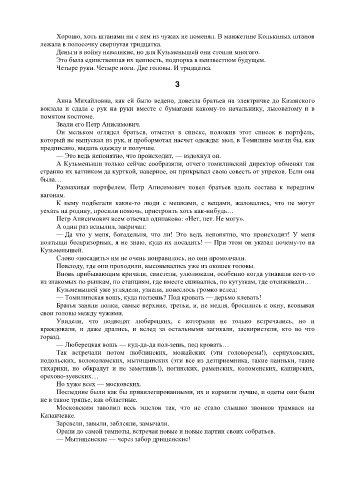Page 10 - Ночевала тучка золотая
P. 10
Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов
лежала в полосочку свернутая тридцатка.
Деньги в войну невеликие, но для Кузьменышей они стоили многого.
Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.
Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.
3
Анна Михайловна, как ей было ведено, довезла братьев на электричке до Казанского
вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в
помятом костюме.
Звали его Петр Анисимович.
Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положив этот список в портфель,
который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как
предписано, выдать одежду и получше.
— Это ведь непонятно, что происходит, — вздохнул он.
А Кузьменыши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так
странно их ватником да курткой, наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она
была…
Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним
вагонам.
К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут
уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь…
Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет, нет. Не могу».
А один раз вспылил, закричал:
— Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно, что происходит! У меня
полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! — При этом он указал почему-то на
Кузьменышей.
Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали.
Повсюду, где они проходили, высовывались уже из окошек головы.
Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то
из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе сшивались, по кутузкам, где отсиживали…
Кузьменышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:
— Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать — дерьмо клевать!
Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и, не медля, бросились к окну, всовывая
свои головы между чужими.
Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и
враждовали, и даже дрались, и вслед за остальными загикали, засвиристели, кто во что
горазд.
— Люберецкая вошь — куд-да-да пол-зешь, под кровать…
Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских,
подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие
тихарики, но обкрадут и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских,
орехово-зуевских…
Но хуже всех — московских.
Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были
не в такое тряпье, как областные.
Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на
Каланчевке.
Заревели, завыли, заблеяли, замычали.
Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев.
— Мытищенские — через забор дрищенские!