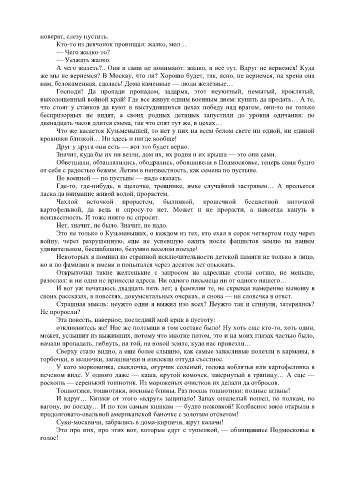Page 12 - Ночевала тучка золотая
P. 12
поверят, слезу пустить.
Кто-то из девчонок пропищал: жалко, мол…
— Чего жалко-то?
— Уезжать жалко.
А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда
же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она
нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные — люди железные…
Господи! Да пропади пропадом, задарма, этот неуютный, немытый, проклятый,
выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать… А те,
что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только
беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по
двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах…
Что же касается Кузьменышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой
кровинки близкой… Ни здесь и нигде вообще!
Друг у друга они есть — вот это будет верно.
Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша — это они сами.
Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто
от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.
По военной — по пустыне — надо сказать.
Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем… А прольется
ласка да внимание живой водой, прорастем.
Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой
картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в
неизвестность. И тоже никто не спросит.
Нет, значит, не было. Значит, не надо.
Это не только о Кузьменышах, о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через
войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем
удивительном, бесшабашно, безумно веселом поезде!
Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо,
но и по фамилии и имени и попытался через десяток лет отыскать.
Открыточки такие желтенькие с запросом на адресные столы сотню, не меньше,
разослал: и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца ни от одного нашего…
И вот уж печатаюсь двадцать пять лет; а фамилии те, не скрывая намеренно выношу в
своих рассказах, в повестях, документальных очерках, и снова — ни словечка в ответ.
Страшная мысль: неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгинули, затерялись?
Не проросли?
Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту:
откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один,
может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было,
начали пропадать, гибнуть, на той, на новой земле, куда нас привезли…
Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в
торбочки, в мешочки, загашнички и извлекли оттуда съестное.
У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в
печеном виде. У одного даже — каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу… А еще —
роскошь — серенький тошнотик. Из мороженых очистков их делали да отбросов.
Тошнотики, тошнотики, военные блины, Раз поешь тошнотики: полные штаны!
И вдруг… Кишки от этого «вдруг» защипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по
вагону, по поезду… И по тем самым кишкам — будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в
продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!
Суки-москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!
Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой, — обнищавшее Подмосковье в
голос!