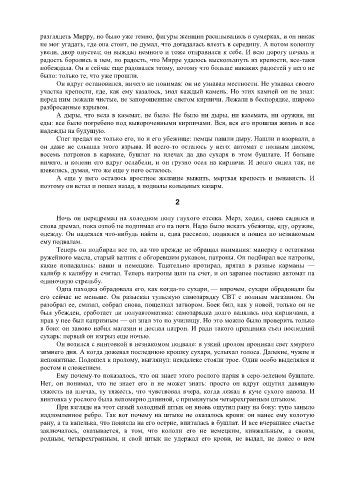Page 111 - В списках не значился
P. 111
разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак
не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну
увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и
радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки
побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не
было: только те, что уже прошли.
Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего
участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал:
перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко
разбросанные взрывом.
А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни
еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Вся, вся его прошлая жизнь и все
надежды на будущую.
Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а
он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском,
восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше
ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не
шевелясь, думая, что же еще у него осталось.
А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И
поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.
2
Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и
снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие,
одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым
ему подвалам.
Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками
ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны,
какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы —
калибр к калибру и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на
одиночную стрельбу.
Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, — впрочем, сухари обрадовали бы
его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он
разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не
был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а
нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только
в бою: он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний
сухарь: первый он изгрыз еще ночью.
Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого
зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и
непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и
ростом и сложением.
Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате.
Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую
тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И
винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.
При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло
надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую
рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье
заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим,
родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о нем