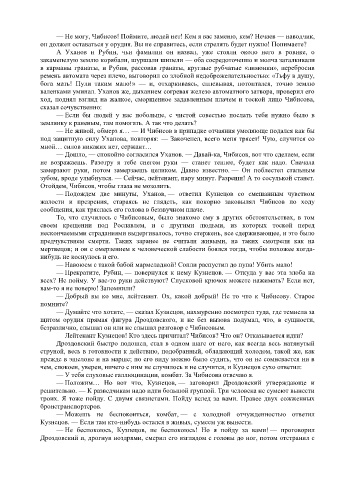Page 155 - Горячий снег
P. 155
— Не могу, Чибисов! Поймите, людей нет! Кем я вас заменю, кем? Нечаев — наводчик,
он должен оставаться у орудия. Вы не справитесь, если стрелять будет нужно! Понимаете?
А Уханов и Рубин, чьи фамилии он назвал, уже стояли около него в ровике, о
закаменелую землю корябали, шуршали шинели — оба сосредоточенно и молча заталкивали
в карманы гранаты, и Рубин, рассовав гранаты, круглые рубчатые «лимонки», перебросив
ремень автомата через плечо, выговорил со злобной недоброжелательностью: «Тьфу в душу,
бога мать! Пули таким мало!» — и, отхаркиваясь, сплевывая, потоптался, точно землю
валенками уминал. Уханов же, дыханием согревая железо автоматного затвора, проверил его
ход, поднял взгляд на жалкое, сморщенное задавленным плачем и тоской лицо Чибисова,
сказал сочувственно:
— Если бы людей у нас побольше, с чистой совестью послать тебя нужно было в
землянку к раненым, там помогать. А так что делать?
— Не живой, обмерз я… — И Чибисов в припадке отчаяния умоляюще подался как бы
под защитную силу Уханова, повторяя: — Закоченел, всего меня трясет! Чую, случится со
мной… силов никаких нет, сержант…
— Дошло, — спокойно согласился Уханов. — Давай-ка, Чибисов, вот что сделаем, если
не возражаешь. Разотру я тебе снегом руки — станет теплее, будет как надо. Сначала
замерзают руки, потом замерзаешь целиком. Давно известно. — Он поблестел стальным
зубом, вроде улыбнулся. — Сейчас, лейтенант, пару минут. Разреши! А то сосулькой станет.
Отойдем, Чибисов, чтобы глаза не мозолить.
— Подождем две минуты, Уханов, — ответил Кузнецов со смешанным чувством
жалости и презрения, стараясь не глядеть, как покорно заковылял Чибисов по ходу
сообщения, как тряслась его голова в беззвучном плаче.
То, что случилось с Чибисовым, было знакомо ему в других обстоятельствах, в том
своем крещении под Рославлем, и с другими людьми, из которых тоской перед
нескончаемыми страданиями выдергивалось, точно стержень, все сдерживающее, и это было
предчувствием смерти. Таких заранее не считали живыми, на таких смотрели как на
мертвецов; и он с омерзением к человеческой слабости боялся тогда, чтобы похожее когда-
нибудь не коснулось и его.
— Навоюем с такой бабой мармеладной! Сопли распустил до пупа! Убить мало!
— Прекратите, Рубин, — повернулся к нему Кузнецов. — Откуда у вас эта злоба на
всех? Не пойму. У вас-то руки действуют? Спусковой крючок можете нажимать? Если нет,
вам-то я не поверю! Запомнили?
— Добрый вы ко мне, лейтенант. Ох, какой добрый! Не то что к Чибисову. Старое
помните?
— Думайте что хотите, — сказал Кузнецов, нахмуренно посмотрел туда, где темнела за
щитом орудия прямая фигура Дроздовского, и не без вызова подумал, что, в сущности,
безразлично, слышал он или не слышал разговор с Чибисовым.
— Лейтенант Кузнецов! Кто здесь причитал? Чибисов? Что он? Отказывается идти?
Дроздовский быстро подошел, стал в одном шаге от него, как всегда весь натянутый
струной, весь в готовности к действию, подобранный, обладающий холодом, такой же, как
прежде в эшелоне и на марше; по его виду можно было судить, что он не сомневается ни в
чем, спокоен, уверен, ничего с ним не случилось и не случится, и Кузнецов сухо ответил:
— У тебя слуховые галлюцинации, комбат. За Чибисова отвечаю я.
— Положим… Но вот что, Кузнецов, — заговорил Дроздовский утверждающе и
решительно. — К разведчикам надо идти большой группой. Три человека не сумеют вынести
троих. Я тоже пойду. С двумя связистами. Пойду вслед за вами. Правее двух сожженных
бронетранспортеров.
— Можешь не беспокоиться, комбат, — с холодной отчужденностью ответил
Кузнецов. — Если там кто-нибудь остался в живых, сумеем уж вынести.
— Не беспокоюсь, Кузнецов, не беспокоюсь! Но я пойду за вами! — проговорил
Дроздовский и, дрогнув ноздрями, смерил его взглядом с головы до ног, потом отстранил с