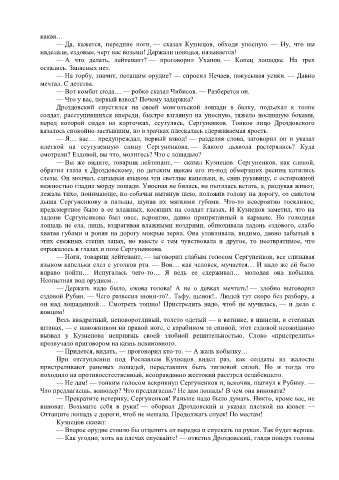Page 27 - Горячий снег
P. 27
какая…
— Да, кажется, передние ноги, — сказал Кузнецов, обходя уносную. — Ну, что вы
наделали, ездовые, черт вас возьми! Держали поводья, называется!
— А что делать, лейтенант? — проговорил Уханов. — Конец лошадке. На трех
остались. Запасных нет.
— На горбу, значит, потащим орудие? — спросил Нечаев, покусывая усики. — Давно
мечтал. С детства.
— Вот комбат сюда… — робко сказал Чибисов. — Разберется он.
— Что у вас, первый взвод? Почему задержка?
Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе
солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, тяжело носившую боками,
перед которой сидел на корточках, ссутулясь, Сергуненков. Тонкое лицо Дроздовского
казалось спокойно-застывшим, но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость.
— Я… вас… предупреждал, первый взвод! — разделяя слова, заговорил он и указал
плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова. — Какого дьявола растерялись? Куда
смотрели? Ездовой, вы что, молитесь? Что с лошадью?
— Вы же видите, товарищ лейтенант, — сказал Кузнецов. Сергуненков, как слепой,
обратил глаза к Дроздовскому, по детским щекам его из-под обмерзших ресниц катились
слезы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки, и, сняв рукавицу, с осторожной
нежностью гладил морду лошади. Уносная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот,
лежала тихо, понимающе, по-собачьи вытянув шею, положив голову на дорогу, со свистом
дыша Сергуненкову в пальцы, щупая их мягкими губами. Что-то невероятно тоскливое,
предсмертное было в ее влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на
ладони Сергуненкова был овес, вероятно, давно припрятанный в кармане. Но голодная
лошадь не ела, лишь, вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь ездового, слабо
хватая губами и роняя на дорогу мокрые зерна. Она улавливала, видимо, давно забытый в
этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что
отражалось в глазах и позе Сергуненкова.
— Ноги, товарищ лейтенант, — заговорил слабым голосом Сергуненков, все слизывая
языком капельки слез с уголков рта. — Вон… как человек, мучается… И надо же ей было
вправо пойти… Испугалась чего-то… Я ведь ее сдерживал… молодая она кобылка.
Неопытная под орудием…
— Держать надо было, ежова голова! А не о девках мечтать! — злобно выговорил
ездовой Рубин. — Чего развесил нюни-то?.. Тьфу, щенок!.. Людей тут скоро без разбору, а
он над лошаденкой… Смотреть тошно! Пристрелить надо, чтоб не мучилась, — и дело с
концом!
Весь квадратный, неповоротливый, толсто одетый — в ватнике, в шинели, в стеганых
штанах, — с наножником на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно
вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово «пристрелить»
прозвучало приговором на казнь невиновного.
— Придется, видать, — проговорил кто-то. — А жаль кобылку…
При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости
пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это
походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего.
— Не дам! — тонким голосом вскрикнул Сергуненков и, вскочив, шагнул к Рубину. —
Что предлагаешь, живодер? Что предлагаешь? Не дам лошадь! В чем она виновата?
— Прекратите истерику, Сергуненков! Раньше надо было думать. Никто, кроме вас, не
виноват. Возьмите себя в руки! — оборвал Дроздовский и указал плеткой на кювет. —
Оттащите лошадь с дороги, чтоб не мешала. Продолжать спуск! По местам!
Кузнецов сказал:
— Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках. Так будет вернее.
— Как угодно, хоть на плечах спускайте! — ответил Дроздовский, глядя поверх головы