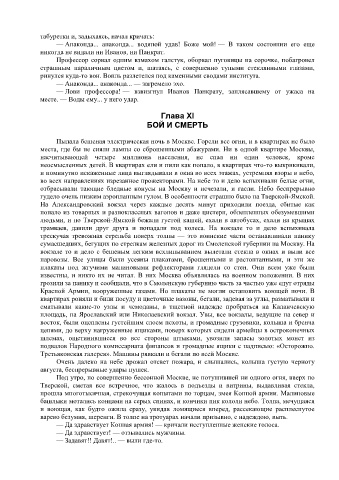Page 39 - Роковые яйца
P. 39
табуретки и, задыхаясь, начал кричать:
— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — В таком состоянии его еще
никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.
Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел
страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами,
ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.
— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.
— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на
месте. — Воды ему... у него удар.
Глава XI
БОЙ И СМЕРТЬ
Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было
места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы,
насчитывающей четыре миллиона населения, не спал ни один человек, кроме
неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали,
и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо,
во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни,
отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно
гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской.
На Александровский вокзал через каждые десять минут приходили поезда, сбитые как
попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими
людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах
трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала
трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику
сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На
вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все
паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же
плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были
известны, и никто их ие читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них
грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды
Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В
квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и
сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую
площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и
восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча
цепями, до верху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных
шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из
подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно.
Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве.
Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту
августа, беспрерывные удары пушек.
Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по
Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла,
прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея Конной армии. Малиновые
башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся
и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое
варево безумия, шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.
— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.
— Да здравствует! — отзывались мужчины.
— Задавят!! Давят!.. — выли где-то.