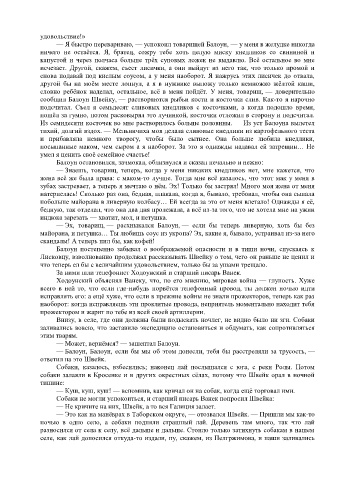Page 335 - Похождения бравого солдата Швейка
P. 335
удовольствие!»
— Я быстро перевариваю, — успокоил товарищей Балоун, — у меня в желудке никогда
ничего не остаётся. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и
капустой и через полчаса больше трёх суповых ложек не выдавлю. Всё остальное во мне
исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и
снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала,
другой бы на моём месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко жёлтой каши,
словно ребёнок наделал, остальное, всё в меня пойдёт. У меня, товарищ, — доверительно
сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно
подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время,
пошёл за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал.
Из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины. — Из уст Балоуна вылетел
тихий, долгий вздох. — Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста
и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики,
посыпанные маком, чем сыром а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин… Не
умел я ценить своё семейное счастье!
Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:
— Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что
жена всё же была права: с маком-то лучше. Тогда мне всё казалось, что этот мак у меня в
зубах застревает, а теперь я мечтаю о нём. Эх! Только бы застрял! Много моя жена от меня
натерпелась! Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала
побольше майорана в ливерную колбасу… Ей всегда за это от меня влетало! Однажды я её,
бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а всё из-за того, что не хотела мне на ужин
индюка зарезать — хватит, мол, и петушка.
— Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без
майорана, и петушка… Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него
скандалы! А теперь пил бы, как кофей!
Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к
Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и
что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.
За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек.
Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже
всего в ней то, что если где-нибудь порвётся телефонный провод, ты должен ночью идти
исправлять его: а ещё хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз
наоборот: когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя
прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии.
Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни зги. Собаки
заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться
этим тварям.
— Может, вернёмся? — зашептал Балоун.
— Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость, —
ответил на это Швейк.
Собаки, казалось, взбесились; наконец лай послышался с юга, с реки Ролы. Потом
собаки залаяли в Кросенке и в других окрестных сёлах, потому что Швейк орал в ночной
тишине:
— Куш, куш, куш! — вспомнив, как кричал он на собак, когда ещё торговал ими.
Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка:
— Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает.
— Это как на манёврах в Таборском округе, — отозвался Швейк. — Пришли мы как-то
ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай
разносился от села к селу, всё дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем
селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались