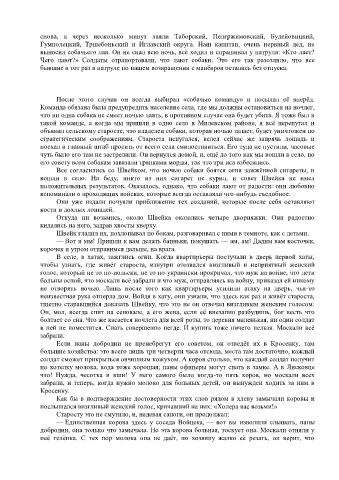Page 336 - Похождения бравого солдата Швейка
P. 336
снова, а через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будейовицкий,
Гумполецкий, Тршебоньский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не
выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, всё ходил и спрашивал у патруля: «Кто лает?
Чего лают?» Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все
бывшие в тот раз в патруле по нашем возвращении с манёвров остались без отпуска.
После этого случая он всегда выбирал «собачью команду» и посылал её вперёд.
Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег,
что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в
такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я всё перепутал и
объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по
стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и
поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые
чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и, ещё до того как мы вошли в село, по
его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.
Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажжённой сигареты, и
вошли в село. На беду, никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел
положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости: они любовно
вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное.
Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют
кости и дохлых лошадей.
Откуда ни возьмись, около Швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно
кидались на него, задрав хвосты кверху.
Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми.
— Вот и мы! Пришли к вам делать баиньки, покушать — ам, ам! Дадим вам косточек,
корочек и утром отправимся дальше, на врага.
В селе, в хатах, зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты,
чтобы узнать, где живёт староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский
голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети
больны оспой, что москали всё забрали и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому
не отворять ночью. Лишь после того как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то
неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живёт староста,
тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом.
Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если её внезапно разбудишь, бог весть что
болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат
в ней не поместится. Спать совершенно негде. И купить тоже ничего нельзя. Москали всё
забрали.
Если паны добродии не пренебрегут его советом, он отведёт их в Кросенку, там
большие хозяйства: это всего лишь три четверти часа отсюда, места там достаточно, каждый
солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров столько, что каждый солдат получит
по котелку молока, вода тоже хорошая; паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце
что! Нужда, чесотка и вши! У него самого было когда-то пять коров, но москали всех
забрали, и теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в
Кросенку.
Как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и
послышался визгливый женский голос, кричавший на них: «Холера вас возьми!»
Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал:
— Единственная корова здесь у соседа Войцека, — вот вы изволили слышать, паны
добродии, она только что замычала. Но эта корова больная, тоскует она. Москали отняли у
неё телёнка. С тех пор молока она не даёт, но хозяину жалко её резать, он верит, что