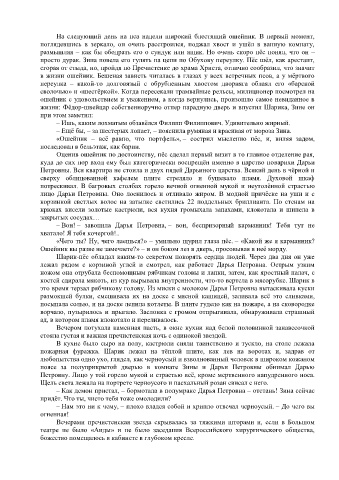Page 18 - Собачье сердце
P. 18
На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент,
поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату,
размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пёс понял, что он –
просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант,
сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит
в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого
переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской
сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на
ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в
жизни: Фёдор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он
при этом заметил:
– Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.
– Ещё бы, – за шестерых лопает, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина.
«Ошейник – всё равно, что портфель», – сострил мысленно пёс, и, виляя задом,
последовал в бельэтаж, как барин.
Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая,
куда до сих пор вход ему был категорически воспрещён именно в царство поварихи Дарьи
Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и
сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф
потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью
лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с
корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на
крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в
закрытых сосудах…
– Вон! – завопила Дарья Петровна, – вон, беспризорный карманник! Тебя тут не
хватало! Я тебя кочергой!..
«Чего ты? Ну, чего лаешься?» – умильно щурил глаза пёс. – «Какой же я карманник?
Ошейник вы разве не замечаете?» – и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду.
Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже
лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким
ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с
костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в
это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски
размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками,
посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке
ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный
ад, в котором пламя клокотало и переливалось.
Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой
стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой.
В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала
пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах и, задрав от
любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном
поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью
Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудренного носа.
Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.
– Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна – отстань! Зина сейчас
придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?
– Нам это ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы
огненная!
Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом
театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества,
божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.