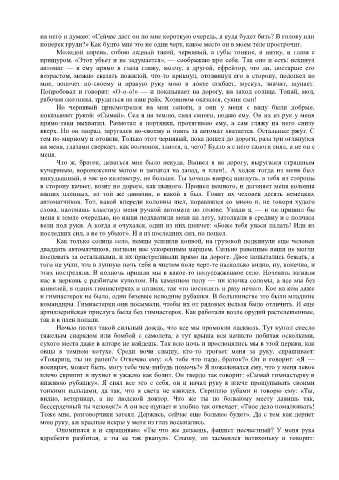Page 7 - Судьба человека
P. 7
на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или
поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.
Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с
прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул
автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его
возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко
мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает.
Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол,
рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!
Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые,
показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня
прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу
вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С
тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся
на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а, чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с
меня.
Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным
кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был
никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны
в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна
наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких
автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого
слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, — и он пришил бы
меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса
вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из
последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.
Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек
двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли
поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а
того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и
этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали
нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без
шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже
и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие
командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще
артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные,
так и в плен попали.
Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло
тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками,
сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как
овцы в темном котухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает:
«Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я —
военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое
плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и
нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими
тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты,
видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так,
бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать!
Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет
мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.
Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука
вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: