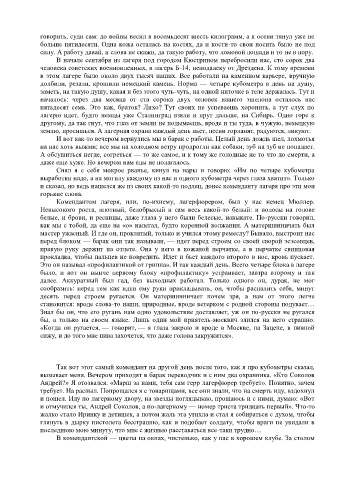Page 10 - Судьба человека
P. 10
говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не
больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под
силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.
В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два
человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени
в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную
долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу,
заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и
началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас
пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по
лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к
другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую
землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.
И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья
на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает.
А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а
даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.
Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра
выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только
и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои
горькие слова.
Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер.
Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове
белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил,
как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был
мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас
перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эсэсовцев,
правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая
прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает.
Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере
было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так
далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог
сообразить: перед тем как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут
десять перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче
становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает…
Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался
бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно.
«Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной
сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».
Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал,
вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов
Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем
требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул
и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот
и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то
жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы
глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в
последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно…
В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом