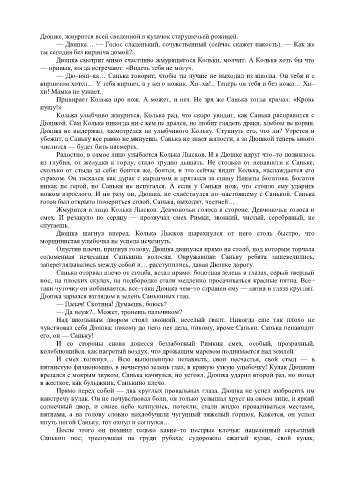Page 35 - Весенние перевертыши
P. 35
Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.
— Дюшка… — Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость). — Как же
ты сегодня без кирпича домой?..
Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что
— привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».
— Дю–юш–ка… Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с
кирпичом хотел… У тебя кирпич, а у него ножик. Хи–хи!.. Теперь он тебя и без ножа… Хи–
хи! Мамка не узнает.
Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь
пущу!»
Колька улыбчиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с
Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми.
Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбчивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и
убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много
числится — будет бить насмерть.
Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что–то поднялось
из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке,
сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его
страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов
никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить
ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по–настоящему с Санькой. Санька
готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней…
Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и
смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не
спутаешь.
Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что
морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.
Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала
соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились,
запереглядывались между собой и… расступились, давая Дюшке дорогу.
Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый
нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все–
таки чуточку он побаивается, все–таки Дюшка чем–то страшен ему — пятна и глаза круглит.
Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.
— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?
— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?
Над школьным двором стоял звонкий, веселый гвалт. Никогда еще так плохо не
чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит
его, он — Саньку!
И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный,
колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.
И смех толкнул… Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в
пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин
врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал
в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.
Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им
навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий
солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами,
пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел
пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся…
После этого он помнил только какие–то пестрые клочья: нацеленный серьезный
Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак,