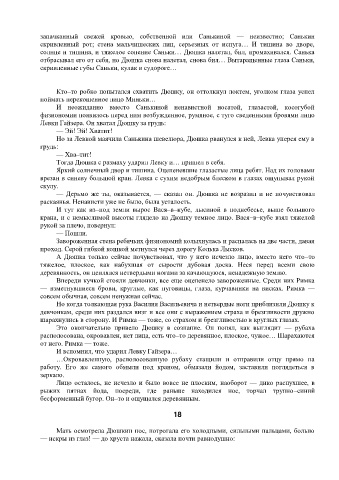Page 36 - Весенние перевертыши
P. 36
запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин
скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга… И тишина во дворе,
солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки… Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька
отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил… Вытаращенные глаза Саньки,
скривленные губы Саньки, кулак в судороге…
Кто–то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел
поймать перекошенное лицо Миньки…
И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой
физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо
Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:
— Эй! Эй! Хватит!
Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в
грудь:
— Хва–тит!
Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и… пришел в себя.
Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами
врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрым блеском в глазах ощупывал рукой
скулу.
— Дерьмо же ты, оказывается, — сказал он. Дюшка не возразил и не почувствовал
раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.
И тут как из–под земли вырос Вася–в–кубе, лысиной в поднебесье, выше большого
крана, и с немыслимой высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася–в–кубе взял тяжелой
рукой за плечо, повернул:
— Пошли.
Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая
проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.
А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что–то
тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою
деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.
Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело завороженные. Среди них Римка
— взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка —
совсем обычная, совсем ненужная сейчас.
Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к
девчонкам, среди них раздался визг и все они с выражением страха и брезгливости дружно
шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.
Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит — рубаха
располосована, окровавлен, нет лица, есть что–то деревянное, плоское, чужое… Шарахаются
от него. Римка — тоже.
И вспомнил, что ударил Левку Гайзера…
…Окровавленную, располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на
работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в
зеркало.
Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в
рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно–синий
бесформенный бугор. Он–то и ощущался деревянным.
18
Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно
— искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно: