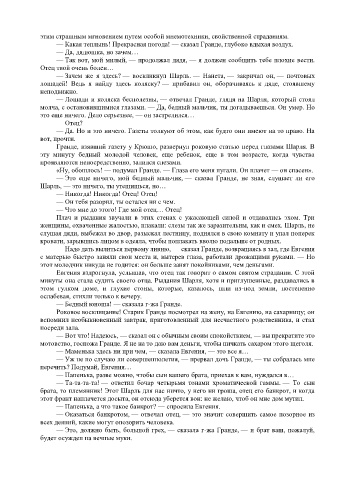Page 38 - Евгения Гранде
P. 38
этим страшным мгновением путем особой мнемотехники, свойственной страданиям.
— Какая теплынь! Прекрасная погода! — сказал Гранде, глубоко вдыхая воздух.
— Да, дядюшка, но зачем…
— Так вот, мой милый, — продолжал дядя, — я должен сообщить тебе плохие вести.
Отец твой очень болен…
— Зачем же я здесь? — воскликнул Шарль. — Нанета, — закричал он, — почтовых
лошадей! Ведь я найду здесь коляску? — прибавил он, оборачиваясь к дяде, стоявшему
неподвижно.
— Лошади и коляска бесполезны, — отвечал Гранде, глядя на Шарля, который стоял
молча, с остановившимися глазами. — Да, бедный мальчик, ты догадываешься. Он умер. Но
это еще ничего. Дело серьезнее, — он застрелился…
— Отец?
— Да. Но и это ничего. Газеты толкуют об этом, как будто они имеют на то право. На
вот, прочти.
Гранде, взявший газету у Крюшо, развернул роковую статью перед глазами Шарля. В
эту минуту бедный молодой человек, еще ребенок, еще в том возрасте, когда чувства
проявляются непосредственно, залился слезами.
«Ну, обошлось! — подумал Гранде. — Глаза его меня пугали. Он плачет — он спасен».
— Это еще ничего, мой бедный мальчик, — сказал Гранде, не зная, слушает ли его
Шарль, — это ничего, ты утешишься, но…
— Никогда! Никогда! Отец! Отец!
— Он тебя разорил, ты остался ни с чем.
— Что мне до этого! Где мой отец… Отец!
Плач и рыдания звучали в этих стенах с ужасающей силой и отдавались эхом. Три
женщины, охваченные жалостью, плакали: слезы так же заразительны, как и смех. Шарль, не
слушая дяди, выбежал во двор, разыскал лестницу, поднялся в свою комнату и упал поперек
кровати, зарывшись лицом в одеяла, чтобы поплакать вволю подальше от родных.
— Надо дать вылиться первому ливню, — сказал Гранде, возвращаясь в зал, где Евгения
с матерью быстро заняли свои места и, вытерев глаза, работали дрожащими руками. — Но
этот молодчик никуда не годится: он больше занят покойниками, чем деньгами.
Евгения вздрогнула, услышав, что отец так говорит о самом святом страдании. С этой
минуты она стала судить своего отца. Рыдания Шарля, хотя и приглушенные, раздавались в
этом гулком доме, и глухие стоны, которые, казалось, шли из-под земли, постепенно
ослабевая, стихли только к вечеру.
— Бедный юноша! — сказала г-жа Гранде.
Роковое восклицание! Старик Гранде посмотрел на жену, на Евгению, на сахарницу; он
вспомнил необыкновенный завтрак, приготовленный для несчастного родственника, и стал
посреди зала.
— Вот что! Надеюсь, — сказал он с обычным своим спокойствием, — вы прекратите это
мотовство, госпожа Гранде. Я не на то даю вам деньги, чтобы пичкать сахаром этого щеголя.
— Маменька здесь ни при чем, — сказала Евгения, — это все я…
— Уж не по случаю ли совершеннолетия, — прервал дочь Гранде, — ты собралась мне
перечить? Подумай, Евгения…
— Папенька, разве можно, чтобы сын вашего брата, приехав к вам, нуждался в…
— Та-та-та-та! — ответил бочар четырьмя тонами хроматической гаммы. — То сын
брата, то племянник! Этот Шарль для нас ничто, у него ни гроша, отец его банкрот, и когда
этот франт наплачется досыта, он отсюда уберется вон: не желаю, чтоб он мне дом мутил.
— Папенька, а что такое банкрот? — спросила Евгения.
— Оказаться банкротом, — отвечал отец, — это значит совершить самое позорное из
всех деяний, какие могут опозорить человека.
— Это, должно быть, большой грех, — сказала г-жа Гранде, — и брат ваш, пожалуй,
будет осужден на вечные муки.