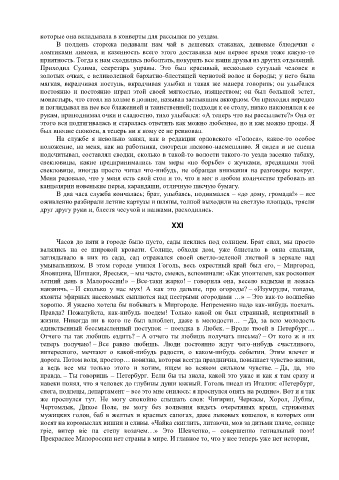Page 124 - Жизнь Арсеньева
P. 124
которые она вкладывала в конверты для рассылки по уездам.
В полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с
ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне первое время тоже какую-то
приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений.
Приходил Сулима, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в
золотых очках, с великолепной бархатно-блестящей чернотой волос и бороды; у него была
мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить; он улыбался
постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом; он был большой эстет,
монастырь, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко
и поглядывал на нее все блаженней и таинственней; подходя к ее столу, низко наклонялся к ее
рукам, приподнимал очки и сладостно, тихо улыбался: «А теперь что вы рассылаете?» Она от
этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я
был вполне спокоен, я теперь ни к кому ее не ревновал.
На службе я невольно занял, как в редакции орловского «Голоса», какое-то особое
положение, на меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша
подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости такого-то уезда засеяно табаку,
свекловицы, какие предпринимались там меры «по борьбе» с жучками, вредящими этой
свекловице, иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг.
Меня радовало, что у меня есть свой стол и то, что я мог в любом количестве требовать из
канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную писчую бумагу.
В два часа служба кончалась; брат, улыбаясь, поднимался – «до дому, громада!» – все
оживленно разбирали летние картузы и шляпы, толпой выходили на светлую площадь, трясли
друг другу руки и, блестя чесучой и палками, расходились.
XXI
Часов до пяти в городе было пусто, сады пеклись под солнцем. Брат спал, мы просто
валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом, уже блистало в окна спальни,
заглядывало в них из сада, сад отражался своей светло-зеленой листвой в зеркале над
умывальником. В этом городе учился Гоголь, весь окрестный край был его, – Миргород,
Яновщина, Шишаки, Яреськи, – мы часто, смеясь, вспоминали: «Как упоителен, как роскошен
летний день в Малороссии!» – Все-таки жарко! – говорила она, весело вздыхая и ложась
навзничь. – И сколько у нас мух! А как это дальше, про огороды? – «Изумруды, топазы,
яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами …» – Это как-то волшебно
хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать.
Правда? Пожалуйста, как-нибудь поедем! Только какой он был странный, неприятный в
жизни. Никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости… – Да, за всю молодость
единственный бессмысленный поступок – поездка в Любек. – Вроде твоей в Петербург…
Отчего ты так любишь ездить? – А отчего ты любишь получать письма? – От кого ж я их
теперь получаю! – Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого,
интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и
дорога. Потом воля, простор… новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни,
а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве. – Да, да, это
правда. – Ты говоришь – Петербург. Если бы ты знала, какой это ужас и как я там сразу и
навеки понял, что я человек до глубины души южный. Гоголь писал из Италии: «Петербург,
снега, подлецы, департамент – все это мне снилось: я проснулся опять на родине». Вот и я так
же проснулся тут. Не могу спокойно слышать слов: Чигирин, Черкасы, Хорол, Лубны,
Чертомлык, Дикое Поле, не могу без волнения видеть очеретяных крыш, стриженых
мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они
носят на коромыслах вишни и сливы. «Чайка скиглить, литаючи, мов за дитьми плаче, солнце
гpie, витер вie на степу козачем…» Это Шевченко, – совершенно гениальный поэт!
Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь уже нет истории, –