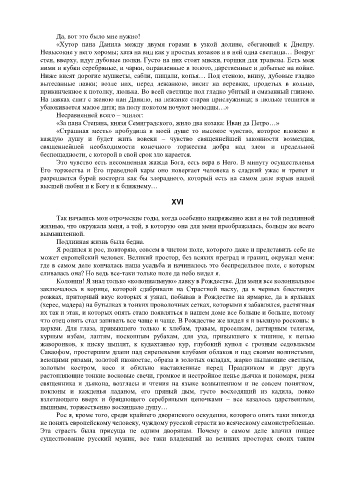Page 17 - Жизнь Арсеньева
P. 17
Да, вот это было мне нужно!
«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру.
Невысокие у него хоромы; хата на вид как у простых козаков и в ней одна светлица… Вокруг
стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж
ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне.
Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья… Под стеною, внизу, дубовые гладко
вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо,
привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною.
На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и
убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы…»
Несравненней всего – эпилог:
«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро…»
«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в
каждую душу и будет жить вовеки – чувство священнейшей законности возмездия,
священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной
беспощадности, с которой в свой срок зло карается.
Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья
Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и
разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей
высшей любви и к Богу и к ближнему…
XVI
Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной
жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего
вымышленной.
Подлинная жизнь была бедна.
Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не
может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня:
где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым
сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я.
Колонии! Я знал только «колониальную» лавку в Рождестве. Для меня все колониальное
заключалось в корице, которой сдабривали на Страстной пасху, да в черных блестящих
рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке, да в ярлыках
(херес, мадера) на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая
их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому
что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь: в
церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам,
курным избам, лаптям, посконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью
жаворонков, к писку цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым
Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми,
веющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым,
золотым костром, косо и обильно наставленные перед Праздником и друг друга
растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пенье дьячка и пономаря, ризы
священника и дьякона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном,
поклоны и кажденья ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко
взлетающего вверх и бряцающего серебряными цепочками – все казалось царственным,
пышным, торжественно восхищало душу…
Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять таки никогда
не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистребленью.
Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее
существование русский мужик, все таки владевший на великих просторах своих таким