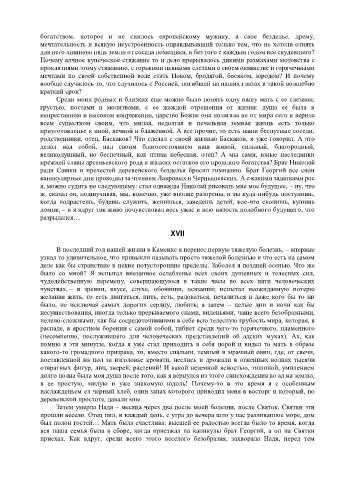Page 18 - Жизнь Арсеньева
P. 18
богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему,
мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять
для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом все скудевшего?
Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с
проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными
мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом? И почему
вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно
краткий срок?
Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами,
грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни: душа ее была в
непрестанном и высоком напряжении, царство Божие она полагала не от мира сего и верила
всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только
приуготовленье к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи,
родственники, отец, Баскаков? Что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что
делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный,
великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец? А мы сами, юные наследники
прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства? Брат Николай
ради Сашки и прелестей деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои
каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос
я, можно судить по следующему: стал однажды Николай рисовать мне мое будущее, – ну, что
ж, сказал он, подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь,
когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь
домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что
разрыдался…
XVII
В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, – впервые
узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на самом
деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же
было со мной? Я испытал внезапное ослабленье всех своих душевных и телесных сил,
чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих
чувствах, – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю
желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни
было, не исключая самых дорогих сердцу, любить; а затем – целые дни и ночи как бы
несуществования, иногда только прерываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными,
нелепо-сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в
распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячечного, пламенного
(несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках). Ах, как
помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать в образе
какого-то громадного призрака, то, вместо спальни, темный и мрачный овин, где, от свечи,
поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи
отвратных фигур, лиц, зверей, растений! И какой неземной ясностью, тишиной, умилением
долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения во ад на землю,
в ее простую, милую и уже знакомую юдоль! Почему-то в это время я с особенным
наслажденьем ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который, по
деревенской простоте, давали мне.
Затем умерла Надя – месяца через два после моей болезни, после Святок. Святки эти
прошли весело. Отец пил, и каждый день, с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом
был полон гостей… Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда
вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки
приехал. Как вдруг, среди всего этого веселого безобразия, захворала Надя, перед тем