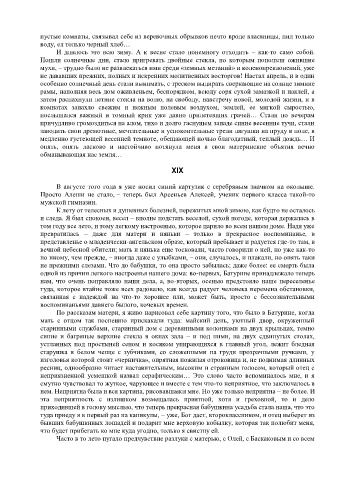Page 20 - Жизнь Арсеньева
P. 20
пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только
воду, ел только черный хлеб…
И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой.
Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие
мухи, – трудно было не развлекаться ими среди «земных метаний» и коленопреклонений, уже
не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов! Настал апрель, и в один
особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние
рамы, наполняя весь дом оживленьем, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а
затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни, и в
комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью,
послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей… Стали по вечерам
причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали
заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в
медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный, теплый дождь… И
опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия вечно
обманывающая нас земля…
XIX
В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше.
Просто Алеши не стало, – теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то
мужской гимназии.
К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимою, как будто не осталось
и следа. Я был спокоен, весел – вполне подстать веселой, сухой погоде, которая держалась в
том году все лето, и тому легкому настроенью, которое царило во всем нашем доме. Надя уже
превратилась – даже для матери и няньки – только в прекрасное воспоминанье, в
представленье о младенчески-ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в
вечной небесной обители; мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то
по иному, чем прежде, – иногда даже с улыбками, – они, случалось, и плакали, но опять таки
не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась; даже более: ее смерть была
одной из причин легкого настроенья нашего дома: во-первых, Батурине принадлежало теперь
нам, что очень поправляло наши дела, а, во-вторых, осенью предстояло наше переселенье
туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки,
связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными
воспоминаньями давнего былого, кочевых времен.
По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда
мать с отцом так поспешно прискакали туда: майский день, уютный двор, окруженный
старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно
синие и багряные верхние стекла в окнах зала – и под ними, на двух сдвинутых столах,
устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная
старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у
изголовья которой стоит «черничка», опрятная пожилая отроковица и, не поднимая длинных
ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с
неприязненной усмешкой назвал серафическим… Это слово часто вспоминалось мне, и я
смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в
нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне. Но уже только неприятна – не более. И
эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело
приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это
туда приеду я в первый раз на каникулы, – уже, Бог даст, второклассником, и отец выберет из
бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня,
что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей.
Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем