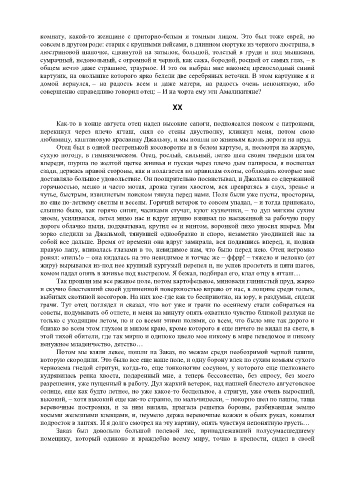Page 22 - Жизнь Арсеньева
P. 22
комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но
совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в
люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками,
сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в
общем нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий
картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и
домой вернулся, – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо
совершенно справедливо говорил отец: – И на чорта ему эти Амаликитяне?
XX
Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами,
перекинул через плечо ягташ, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою
любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивьям вдоль дороги на пруд.
Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую,
сухую погоду, в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом
впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым папиросы, я поспешал
сзади, держась правой стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать которые мне
доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и Джальма со сдержанной
горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зренье и
чутье, быстрым, извилистым поиском тянула перед нами. Поля были уже пусты, просторны,
но еще по-летнему светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упадал, – и тогда припекало,
слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики, – то дул мягким сухим
зноем, усиливался, летел мимо нас и вдруг игриво взвивал по наезженной за рабочую пору
дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее и винтом, воронкой лихо уносил вперед. Мы
зорко следили за Джальмой, тянувшей однообразно и споро, незаметно уводившей нас за
собой все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед, и, подняв
правую лапу, впивалась глазами в то, невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко
ронял: «пиль!» – она кидалась на это невидимое и тотчас же – ффрр! – тяжело и неловко (от
жиру) вырывался из-под нее крупный кургузый перепел и, не успев пролететь и пяти шагов,
комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирал его, клал отцу в ягташ…
Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко
и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью вправо от нас, в лощине среди голых,
выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как то бесприютно, на юру, в раздумьи, сидели
грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже и грачи по осеннему стали собираться на
советы, подумывать об отлете, и меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки не
только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и
близко во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видал на свете, в
этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому
ненужное младенчество, детство…
Потом мы взяли левее, пошли на Заказ, по межам среди необозримой черной пашни,
которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну борону влек по сухим комьям сухого
чернозема гнедой стригун, когда-то, еще тонконогим сосуном, у которого еще шелковисто
кудрявилась репка хвоста, подаренный мне, а теперь бессовестно, без спросу, без моего
разрешения, уже пущенный в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское
солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное, а стригун, уже очень выросший,
высокий, – хотя высокий еще как-то странно, по мальчишески, – покорно шел по пашне, таща
веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бороны, разбивавшая землю
косыми железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял
подросток в лаптях. И я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть…
Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему
помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей