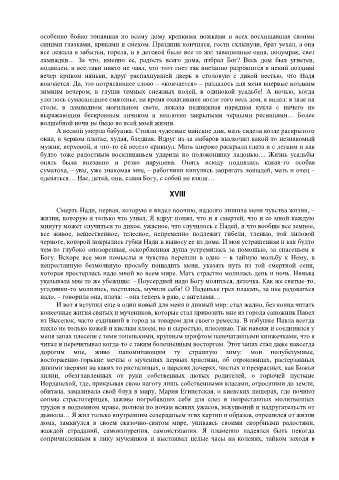Page 19 - Жизнь Арсеньева
P. 19
особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими
синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она
все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет
лампадки… За что, именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен,
подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний
вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя
кончается. Да, это потрясающее слово – «кончается» – раздалось для меня впервые поздним
зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда
улеглось сумасшедшее смятенье, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале на
столе, в лампадном могильном свете, лежала недвижная нарядная кукла с ничего не
выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами… Более
волшебной ночи не было во всей моей жизни.
А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни, мать сидела возле раскрытого
окна, в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый
мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как
будто тоже радостным восклицаньем ударила по подоконнику ладонью… Жизнь усадьбы
опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая
суматоха, – увы, уже знакомая мне, – работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец –
одеваться… Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли…
XVIII
Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, –
жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертей, что и со мной каждую
минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное,
все живое, вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой
черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто
чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасеньем к
Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – в тайную мольбу к Нему, в
непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени,
которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька
указывала мне то же убежище: – Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то,
угодники-то молились, постились, мучили себя! О Наденьке грех плакать, за нее радоваться
надо, – говорила она, плача: – она теперь в раю, с ангелами…
И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать
копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел
из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда
пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у
меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я
читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда
дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму: мои полубезумные,
восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных
дикими зверями на каких то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как Божьи
лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне
Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными власами, отросшими до земли,
обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют
сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных
трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от
дьявола… Я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни
дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями,
жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда
сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в