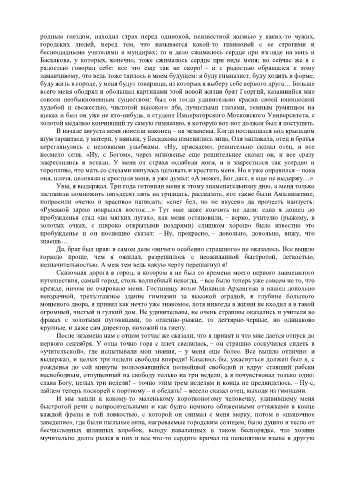Page 21 - Жизнь Арсеньева
P. 21
родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих,
городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и
беспощадными учителями в мундирах; то и дело сжималось сердце при взгляде на мать и
Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня; но сейчас же я с
радостью говорил себе: все это еще так не скоро! – и с радостью обращался к тому
заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем: я буду гимназист, буду ходить в форме,
буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга… Больше
всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне
совсем необыкновенным существом: был он тогда удивительно красив своей юношеской
худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на
щеках и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского Университета, с
золотой медалью кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить.
В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом
шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья
переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», решительно сказал отец, и все
несмело сели. «Ну, с Богом», через мгновенье еще решительнее сказал он, и все сразу
закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и
торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока
она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я еще не выдержу…»
Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только
заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были Амаликитяне,
попросили «четко и красиво» написать: «снег бел, но не вкусен» да прочесть наизусть:
«Румяной зарею покрылся восток…» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до
пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в
золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это
пробужденье и он поспешно сказал: – Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что
знаешь…
Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Все вышло
гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью,
незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!
Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого
путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что
прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно
невзрачной, трехъэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого
мощеного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой
огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во
фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково
крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.
После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до
первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в
«учительской», где испытывали мои знания, – у меня еще более. Все вышло отлично: и
выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с
рожденья до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски
несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно:
слава Богу, целых три недели! – точно этим трем неделям и конца не предвиделось. – Ну-с,
зайдем теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.
И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня
быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце
каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное
заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от
бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин
мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую