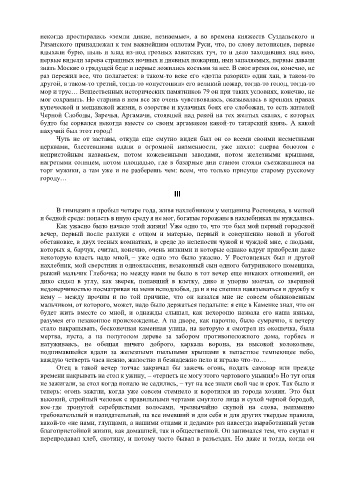Page 26 - Жизнь Арсеньева
P. 26
некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и
Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые
вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею,
первые видели зарева страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали
знать Москве о грядущей беде и первые ложились костьми за нее. В свое время он, конечно, не
раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то
другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то
мор и трус… Вещественных исторических памятников 79 он при таких условиях, конечно, не
мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах
купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей
Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых
будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой
пахучий был этот город!
Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными
церквами, блестевшими вдали в огромной низменности, уже пахло: сперва болотом с
непристойным названьем, потом кожевенными заводами, потом железными крышами,
нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на
торг мужики, а там уже и не разберешь чем: всем, что только присуще старому русскому
городу…
III
В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой
и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались.
Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской
вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой
обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми,
которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые однако вдруг приобрели даже
некоторую власть надо мной, – уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой
нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика,
рыжий мальчик Глебочка; но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений, он
дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной
недоверчивостью посматривая на меня исподлобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к
нему – между прочим и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным
мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше: я еще в Каменке знал, что он
будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька,
разумея его незаконное происхожденье. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру
стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была
мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и
натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона, на высокой колокольне,
поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо,
каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пело и играло что-то…
Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде
времени накрывать на стол к ужину, – «терпеть не могу этого чертового уныния!» Но тут огня
не зажигали, за стол когда попало не садились, – тут на все знали свой час и срок. Так было и
теперь: огонь зажгли, когда уже совсем стемнело и воротился из города хозяин. Это был
высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой,
кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно
требовательный и назидательный, на все имевший и для себя и для других твердые правила,
какой-то «не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами» раз навсегда выработанный устав
благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и
перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он