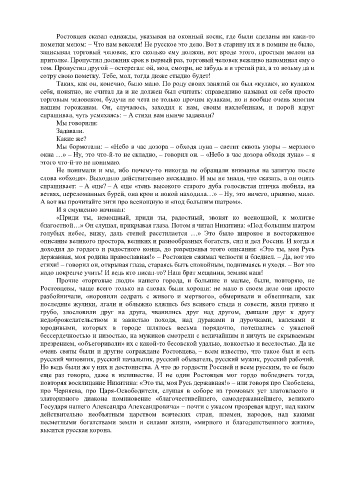Page 28 - Жизнь Арсеньева
P. 28
Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им каки-то
пометки мелом: – Что нам векселя! Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было,
записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на
притолке. Пропустил должник срок в первый раз, торговый человек вежливо напоминал ему о
том. Пропустил другой – остерегал: ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму да и
сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет!
Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был «кулак», но кулаком
себя, понятно, не считал да и не должен был считать: справедливо называл он себя просто
торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим
нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг
спрашивал, чуть усмехаясь: – А стихи вам нынче задавали?
Мы говорили:
Задавали.
Какие же?
Мы бормотали: – «Небо в час дозора – обходя луна – светит сквозь узоры – мерзлого
окна …» – Ну, это что-й-то не складно, – говорил он. – «Небо в час дозора обходя луна» – я
этого что-й-то не понимаю.
Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали вниманья на запятую после
слова «обходя». Выходило действительно нескладно. И мы не знали, что сказать, а он опять
спрашивает: – А еще? – А еще «тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на
ветвях, переломанных бурей, она кров и покой находила…» – Ну, это ничего, приятно, мило.
А вот вы прочитайте энти про всенощную и «под большим шатром».
И я смущенно начинал:
«Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всенощной, к молитве
благостной…» Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром
голубых небес, вижу, даль степей расстилается …» Это было широкое и восторженное
описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я
доходил до гордого и радостного конца, до разрешенья этого описания: «Это ты, моя Русь
державная, моя родина православная!» – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. – Да, вот это
стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это
надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш!
Прочие «торговые люди» нашего города, и большие и малые, были, повторяю, не
Ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши: не мало в своем деле они просто
разбойничали, «норовили содрать с живого и мертвого», обмеривали и обвешивали, как
последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и
грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу
недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и
юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной
бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым
презрением, «объегоривали» их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не
очень святы были и другие сограждане Ростовцева, – всем известно, что такое был и есть
русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий.
Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости Россией и всем русским, то ее было
еще раз говорю, даже в излишестве. И не один Ростовцев мог гордо побледнеть тогда,
повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» – или говоря про Скобелева,
про Черняева, про Царя-Освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и
златоризного диакона поминовение «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого
Государя нашего Александра Александровича» – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким
действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими
несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития»,
высится русская корона.