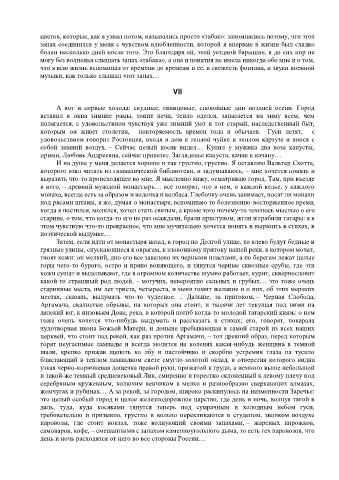Page 31 - Жизнь Арсеньева
P. 31
цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто «табак»: запомнились потому, что этот
запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко
болен несколько дней после того. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не
могу без волненья слышать запах «табака», а она и понятия не имела никогда обо мне и о том,
что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной
музыки, как только слышал этот запах…
VII
А вот и первые холода: скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город
вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем
полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт,
которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев. – Гуси летят, – с
удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с
собой зимний воздух. – Сейчас целый косяк видел… Купил у мужика два воза капусты,
прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, качан к качану…
И на душе у меня делается хорошо и так грустно, грустно. Я оставляю Вальтер Скотта,
которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь, – мне хочется понять и
выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там, при въезде
в него, – древний мужской монастырь… все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого
монаха, всегда есть за образом и водочка и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи
под рясами штаны, я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное время,
когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того почему-то томлюсь мыслью о его
старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в
этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в
поэтической выдумке…
Затем, если идти от монастыря назад, в город по Долгой улице, то влево будут бедные и
грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат,
гноят кожи: он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые
горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти
кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит
какой-то страшный род людей, – могучих, невероятно сальных и грубых… это тоже очень
старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит желание и о них, об этих мерзких
местах, сказать, выдумать что-то чудесное. .. Дальше, за притоком, – Черная Слобода,
Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на
далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь: о нем
тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах; его, говорят, покарала
чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших
церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи, – тот древний образ, перед которым
горят неугасимые лампады и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной
шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло
блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстия которого видна
узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой
и такой-же темный средневековый Лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под
серебряным кружевным, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах,
жемчугах и рубинах… А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье:
это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой в
даль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси,
требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном, звонком воздухе
паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами, – жареных пирожков,
самоваров, кофе, – смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что
день и ночь расходятся от него во все стороны России…