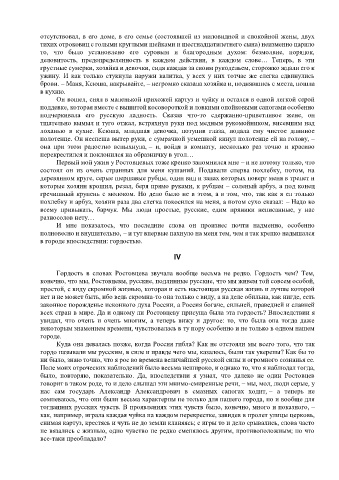Page 27 - Жизнь Арсеньева
P. 27
отсутствовал, в его доме, в его семье (состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух
тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и шестнадцатилетнего сына) неизменно царило
то, что было установлено его суровым и благородным духом: безмолвие, порядок,
деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове… Теперь, в эти
грустные сумерки, хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукодельем, сторожко ждали его к
ужину. И как только стукнула наружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись
брови. – Маня, Ксюша, накрывайте, – негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла
в кухню.
Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в одной легкой серой
поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно
подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно-приветливое жене, он
тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над
лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное
полотенце. Он неспеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, –
она при этом радостно вспыхнула, – и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво
перекрестился и поклонился на образничку в угол…
Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне – и не потому только, что
состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом, на
деревянном круге, серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет и
которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам – соленый арбуз, а под конец
гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только
похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: – Надо ко
всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас
разносолов нету…
И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно
полновесно и внушительно, – и тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался
в городе впоследствии: гордостью.
IV
Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма не редко. Гордость чем? Тем,
конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой,
простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой
нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть
законное порожденье исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней
всех стран в мире. Да и одному ли Ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я
увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое: то, что была она тогда даже
некоторым знамением времени, чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем
городе.
Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так
гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то
ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознанья ее.
Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда,
было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один Ростовцев
говорит в таком роде, то и дело слышал эти мнимо-смиренные речи, – мы, мол, люди серые, у
нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, – а теперь не
сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для
тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, –
как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь,
снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь; с игры то и дело срывались, слова часто
не вязались с жизнью, одно чувство не редко сменялось другим, противоположным; но что
все-таки преобладало?