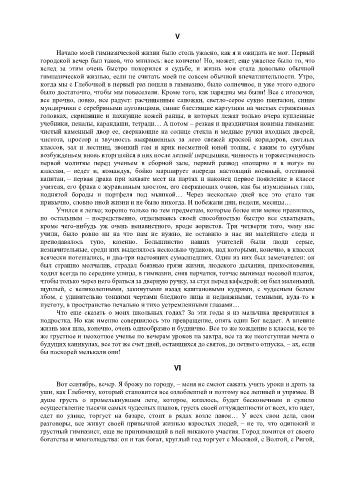Page 29 - Жизнь Арсеньева
P. 29
V
Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый
городской вечер был таков, что мнилось: все кончено! Но, может, еще ужаснее было то, что
вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной
гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро,
когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного
было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Все с иголочки,
все прочно, ловко, все радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие
мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных
головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные
учебники, пеналы, карандаши, тетради… А потом – резкая и праздничная новизна гимназии:
чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей,
чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых
классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким то сугубым
возбужденьем вновь вторгшейся в них после летней' передышки, чинность и торжественность
первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по
классам, – ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной
капитан, – первая драка при захвате мест на партах и наконец первое появление в классе
учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз,
поднятой бороды и портфеля под мышкой… Через несколько дней все это стало так
привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы…
Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились,
по остальным – посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать,
кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас
учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и
преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые,
незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах
всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он
был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения,
ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок,
чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький,
щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым
лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в
пустоту, в пространство печально и тихо устремленными глазами…
Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в
подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне
жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то
же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о
будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если
бы поскорей мелькали они!
VI
Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу, – меня не смеют сажать учить уроки и драть за
уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все ленивей и упрямее. В
душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным и сулило
осуществление тысячи самых чудесных планов, грусть своей отчужденности от всех, кто идет,
едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок… У всех свои дела, свои
разговоры, все живут своей привычной жизнью взрослых людей, – не то, что одинокий и
грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего
богатства и многолюдства: он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой,