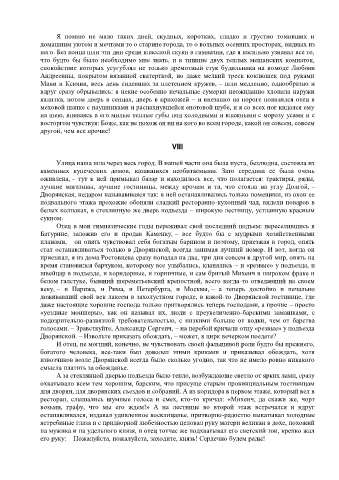Page 32 - Жизнь Арсеньева
P. 32
Я помню не мало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и
домашним уютом и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из
него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то,
что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток,
спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови
Андреевны, покрытом вязанной скатерткой, но даже мелкий треск коклюшек под руками
Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, – шли медленно, однообразно и
вдруг сразу обрывались: в некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружи
калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей – и внезапно на пороге появлялся отец в
меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему
на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с морозу усами и с
восторгом чувствуя: Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем, совсем
другой, чем все прочие!
VIII
Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из
каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень
оживлена, – тут к ней примыкал базар и находилось все, что полагается: трактиры, ряды,
лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим и та, что стояла на углу Долгой, –
Дворянская, недаром называвшаяся так: в ней останавливались только помещики, из окон ее
подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад, видели поваров в
белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда – широкую лестницу, устланную красным
сукном.
Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем: переселившись в
Батурине, заложив его и продав Каменку, – все будто бы с мудрыми хозяйственными
планами, – он опять чувствовал себя богатым барином и поэтому, приезжая в город, опять
стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он
приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на два, три дня совсем в другой мир, опять на
время становился барчуком, которому все улыбались, кланялись – и «резвые» у подъезда, и
швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и
белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем
веку, – и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, – а теперь достойно и печально
доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то Дворянской гостинице, где
даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие – просто
«уездные моншеры», как он называл их, люди с преувеличенно-барскими замашками, с
подозрительно-развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства
голосами. – Зравствуйте, Александр Сергеич, – на перебой кричали отцу «резвые» у подъезда
Дворянской. – Извольте приказать обождать, – может, в цирк вечерком поедете?
И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего,
богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя
извозчиков возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого
смысла платить за обожданье.
А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу
охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам
для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в
ресторан, слышались шумные голоса и смех, кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, чорт
возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг
останавливался, издавал удивленное восклицанье, притворно-радостно выкатывал холодные
ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дохе, похожий
на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал
его руку: – Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь! Сердечно будем рады!