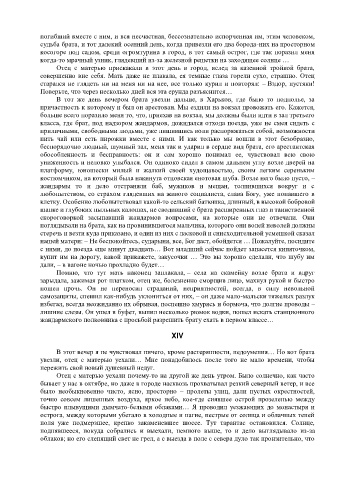Page 40 - Жизнь Арсеньева
P. 40
погибший вместе с ним, и вся несчастная, бессознательно испорченная им, этим человеком,
судьба брата, и тот далекий осенний день, когда привезли его два борода-них на просторном
косогоре под садом, среди огромтурина в город, в тот самый острог, где так поразил меня
когда-то мрачный узник, глядевший из-за железной решетки на заходящее солнце …
Отец с матерью прискакали в этот день в город, вслед за казенной тройкой брата,
совершенно вне себя. Мать даже не плакала, ея темные глаза горели сухо, страшно. Отец
старался не глядеть ни на меня ни на нее, все только курил и повторял: – Вздор, пустяки!
Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится…
В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за
причастность к которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется,
больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего
класса, где брат, под надзором жандармов, дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с
приличными, свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности
пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно,
беспорядочно людный, шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская
обособленность и бесправность: он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою
униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на
платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким
костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто, –
жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг и с
любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава Богу, уже попавшего в
клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой
шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной
скороговоркой засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они
поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей неволей должны
стеречь и везти куда приказано, и один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал
нашей матери: – Не беспокойтесь, сударыня, все, Бог даст, обойдется … Пожалуйте, посидите
с ними, до поезда еще минут двадцать… Вот младший сейчас пойдет запасется кипяточком,
купит им на дорогу, какой прикажете, закусочки … Это вы хорошо сделали, что шубу им
дали, – в вагоне ночью прохладно будет…
Помню, что тут мать наконец заплакала, – села на скамейку возле брата и вдруг
зарыдала, зажимая рот платком, отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро
пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей, всегда, в силу невольной
самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них, – он даже мало-мальски тяжелых разлук
избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы –
лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного
жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в первом классе…
XIV
В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения… Но вот брата
увезли, отец с матерью уехали… Мне понадобилось после того не мало времени, чтобы
пережить свой новый душевный недуг.
Отец с матерью уехали почему-то на другой же день утром. Было солнечно, как часто
бывает у нас в октябре, но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все
было необыкновенно чисто, ясно, просторно – пролеты улиц, дали пустых окрестностей,
точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между
быстро плывущими дымчато-белыми облаками… Я проводил уезжающих до монастыря и
острога, между которыми убегало в холодные и нагие, пестрые от солнца и облачных теней
поля уже подмерзшее, крепко закаменевшее шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце,
поднявшееся, покуда собрались и выехали, немного выше, то и дело выглядывало из-за
облаков; но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что