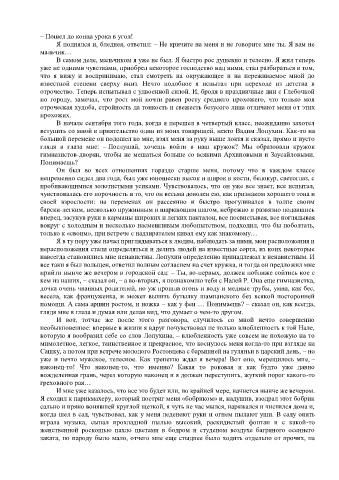Page 36 - Жизнь Арсеньева
P. 36
– Пошел до конца урока в угол!
Я поднялся и, бледнея, ответил: – Не кричите на меня и не говорите мне ты. Я вам не
мальчик…
В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь
уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том,
что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до
известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в
отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой
по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя
отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих
прохожих.
В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел
вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на
большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто
глядя в глаза мне: – Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок
гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми.
Понимаешь?
Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе
непременно сидел два года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светоглаз, с
пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал,
чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и
своей взрослости: на переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим
барски-легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись
вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая
вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, что бы поболтать,
только к «своим», при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому…
Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними, мои расположения и
нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые
навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И
все таки я был польщен, ответил полным согласием на счет кружка, и тогда он предложил мне
прийти нынче же вечером в городской сад: – Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с
кем из наших, – сказал он, – а во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка,
дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес,
весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней
помощи. А сама аршин ростом, и ножка – как у феи … Понимаешь? – сказал он, как всегда,
глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом.
И вот, тотчас же после этого разговора, случилось со мной нечто совершенно
необыкновенное: впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале,
которую я вообразил себе со слов Лопухина, – влюбленность уже совсем не похожую на то
мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на
Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гуляньи в царский день, – но
уже и нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера! Вот оно, мерещилось мне, –
наконец-то! Что наконец-то, что именно? Какая то роковая и как будто уже давно
вожделенная грань, через которую наконец и я должен переступить, жуткий порог какого-то
греховного рая…
И мне уже казалось, что все это будет или, по крайней мере, начнется нынче же вечером.
Я сходил к парикмахеру, который постриг меня «бобриком» и, надушив, взодрал этот бобрик
сально и пряно вонявшей круглой щеткой, я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома и,
когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять
играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то
женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего
заката, но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на