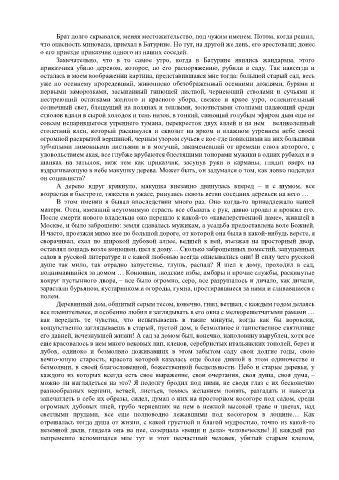Page 39 - Жизнь Арсеньева
P. 39
Брат долго скрывался, меняя местожительство, под чужим именем. Потом, когда решил,
что опасность миновала, приехал в Батурине. Но тут, на другой же день, его арестовали; донес
о его приезде приказчик одного из наших соседей.
Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого
приказчика убило деревом, которое, по его распоряжению, рубили в саду. Так навсегда и
осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда: большой старый сад, весь
уже по осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и
первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями и
пестреющий остатками желтого и красного убора, свежее и яркое утро, ослепительный
солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми, золотистыми столпами падающий среди
стволов вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не
совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей и на нем – великолепный
столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей
огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев с кое-где повисшими на них большими
зубчатыми лимонными листьями и в могучий, закаменевший от времени ствол которого, с
удовольствием акая, все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в
шапках на затылок, меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на
вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел
он социалиста?
А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед – и с шумом, все
возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него …
В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей
матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его.
После смерти нового владельца оно перешло к какой-то «кавалерственной даме», жившей в
Москве, и было заброшено: земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией.
И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я
сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведшей к ней, въезжал на просторный двор,
оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому… Сколько заброшенных поместий, запущенных
садов в русской литературе и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской
душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад,
поднимавшийся за домом … Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые
вокруг пустынного двора, – все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали,
зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумна, простиравшиеся за ними и сливавшиеся с
полем.
Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь
все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами …
как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски,
кощунственно заглядываешь в старый, пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище
его давней, исчезнувшей жизни! А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все
еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и
дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою
вечно-юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и
безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у
каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, –
можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно
разнообразных вершин, ветвей, листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда
запечатлеть в себе их образы, сидел, думал о них на просторном косогоре под садом, среди
огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над
светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором в лощине… Как
отрешалась тогда душа от жизни, с какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то
неземной дали, глядела она на нее, созерцала «вещи и дела» человеческие! И каждый раз
непременно вспоминался мне тут и этот несчастный человек, убитый старым кленом,