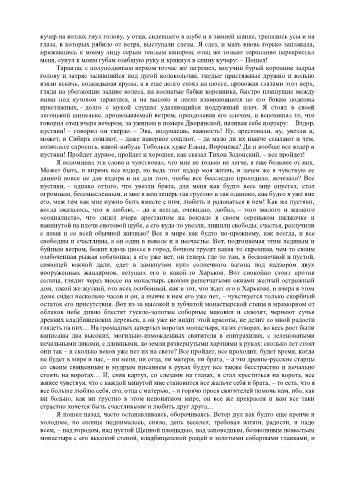Page 41 - Жизнь Арсеньева
P. 41
кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы и на
глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез, и мать вновь горько заплакала,
прижавшись к моему лицу серым теплым капором, отец же только торопливо перекрестил
меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: – Пошел!
Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрал
голову и затряс залившийся под дугой колокольчик, гнедые пристяжные дружно и вольно
взяли вскачь, подкидывая крупы, а я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх,
глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между
ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы
пристяжных, – долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей
легонькой шинельке, пронизываемый ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что
говорил отец вчера вечером, за ужином в номере Дворянской, наливая себе портеру: – Вздор,
пустяки! – говорил он твердо. – Эка, подумаешь, важность! Ну, арестовали, ну, увезли и,
может, в Сибирь сошлют, – даже наверное сошлют, – да мало ли их нынче ссылают и чем,
позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздор и
пустяки! Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский, – все пройдет!
Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них.
Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее
данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все
пустяки, – однако оттого, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал
огромным, бессмысленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне
его, меж тем как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем! Как же пустяки,
когда оказалось, что я люблю, – да и всегда, очевидно, любил, – того милого и жалкого
«социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и
накинутой на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли, лишили свободы, счастья, разлучили
с нами и со всей обычной жизнью? Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все
свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот, подгоняемая этим ледяным и
буйным ветром, бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим
озабоченная рыжая собачонка; а его уже нет, он теперь где-то там, в бесконечной и пустой,
сияющей южной дали, едет в замкнутом купэ солнечного вагона под надзором двух
вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против
солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный
дом, такой же жуткий, ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове, и вчера в этом
доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет, – чувствуется только скорбный
остаток его присутствия. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены в мраморном от
облаков небе дивно блестят тускло-золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья
древних кладбищенских деревьев, а он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости
глядеть на них… На громадных запертых воротах монастыря, на их створах, во весь рост были
написаны два высоких, могильно-изможденных святителя в епитрахилях, с зеленоватыми
печальными ликами, с длинными, до земли развернутыми хартиями в руках: сколько лет стоят
они так – и сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит, будет время, когда
не будет в мире и нас, – ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, – а эти древне-русские старцы
со своим священным и мудрым писанием в руках будут все также бесстрастно и печально
стоять на воротах… И, сняв картуз, со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все
живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата, – то есть, что я
все больше люблю себя, его, отца с матерью, – и горячо прося святителей помочь нам, ибо, как
ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен и нам все таки
страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга…
Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул как будто еще крепче и
холоднее, но солнце поднималось, сияло, день веселел, требовал жизни, радости, и надо
всем, – над городом, над пустой Щепной площадью, над заповедным, безмолвным поместьем
монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и