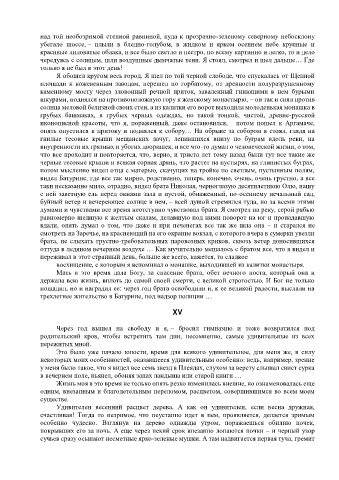Page 42 - Жизнь Арсеньева
P. 42
над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону
убегало шоссе, – плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные и
красивые лиловатые облака, и все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело
чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше… Где
только я не был в этот день!
Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от Щепной
площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому, от древности полуразрушенному
каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми
шкурами, поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, – он так и сиял против
солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в
грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древне-русской
иконописной красоты, что я, пораженный, даже остановился, – потом пошел к Аргамаче,
опять опустился к притоку и поднялся к собору… На обрыве за собором я стоял, глядя на
гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на
внутренности их грязных и убогих дворишек, и все что-то думал о человеческой жизни, о том,
что все проходит и повторяется, что, верно, и триста лет тому назад были тут все такие же
черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх,
потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым, пустынным полям,
видел Батурине, где все так мирно, родственно, теперь, конечно, очень, очень грустно, а все
таки несказанно мило, отрадно, видел брата Николая, черноглазую десятилетнюю Олю, нашу
с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный, по-осеннему печальный сад,
буйный ветер и вечереющее солнце в нем, – всей душой стремился туда, но за всеми этими
думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата. Я смотрел на реку, серой рябью
равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую
вдали, опять думал о том, что даже и при печенегах все так же шла она – и старался не
смотреть на Заречье, на краснеющий на его окраине вокзал, с которого вчера в сумерки увезли
брата, не слыхать грустно-требовательных паровозных криков, сквозь ветер доносившихся
оттуда в ледяном вечернем воздухе … Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и
переживал в этот странный день, больше же всего, кажется, то сладкое
восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря.
Мать в это время дала Богу, за спасение брата, обет вечного поста, который она и
держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только
пощадил, но и наградил ее: через год брата освободили и, к ее великой радости, выслали на
трехлетнее жительство в Батурине, под надзор полиции …
XV
Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под
родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех
пережитых мной.
Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу
некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение
у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка
в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги …
Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще
одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем
существе.
Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная,
счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым
особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек,
покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки – и черный узор
сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит