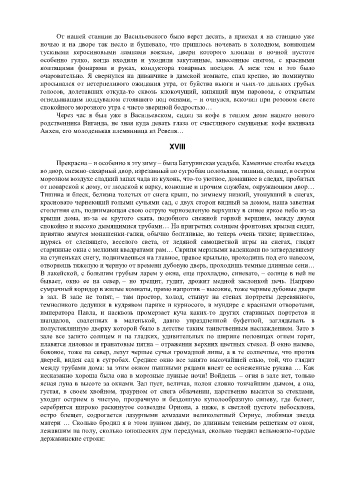Page 46 - Жизнь Арсеньева
P. 46
От нашей станции до Васильевского было верст десять, а приехал я на станцию уже
ночью и на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем
тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте
особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными
коптящими фонарями в руках, кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было
очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно
просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых
голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий, кипящий шум паровоза, с открытым
огнедышащим поддувалом стоявшего под окнами, – и очнулся, вскочил при розовом свете
спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью…
Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового
родственника Виганда, не зная куда девать глаза от счастливого смущенья: кофе наливала
Анхен, его молоденькая племянница из Ревеля…
XVIII
Прекрасна – и особенно в эту зиму – была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда
во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром
морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых
от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор…
Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по зимнему низкий, утонувший в снегах,
красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом, наша заветная
столетняя ель, поднимающая свою острую чернозеленую верхушку в синее яркое небо из-за
крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя
спокойно и высоко дымящимися трубами… На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят,
приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие; приветливо,
щурясь от слепящего, веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят
старинные окна с мелкими квадратами рам… Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему
на ступеньках снегу, поднимаешься на главное, правое крыльцо, проходишь под его навесом,
отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени…
В лакейской, с большим грубым ларем у окна, еще прохладно, синевато, – солнце в ней не
бывает, окно ее на север, – но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо
сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив – высокие, тоже черные дубовые двери
в зал. В зале не топят, – там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного,
темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого, в мундире с красными отворотами,
императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и
шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в
полустеклянную дверку которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в
зале все залито солнцем и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят,
плавятся лиловые и гранатовые пятна – отражения верхних цветных стекол. В окно налево,
боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против
дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит
между трубами дома: за этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава … Как
несказанно хороша была она в морозные лунные ночи! Войдешь – огня в зале нет, только
ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом, а она,
густая, в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами,
уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет,
серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона,
остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда
матери … Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон,
лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно-гордые
державинские строки: