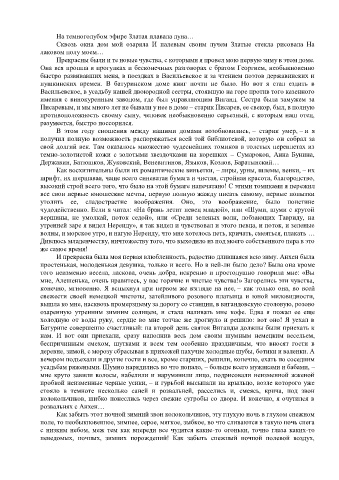Page 47 - Жизнь Арсеньева
P. 47
На темноголубом эфире Златая плавала луна…
Сквозь окна дом мой озаряла И палевым своим лучем Златые стекла рисовала На
лаковом полу моем…
Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме.
Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно
быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и
пушкинских времен. В батуринском доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в
Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного
имения с винокуренным заводом, где был управляющим Виганд. Сестра была замужем за
Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме – старик Писарев, ее свекор, был, в полную
противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец,
разумеется, быстро поссорился.
В этом году сношения между нашими домами возобновились, – старик умер, – и я
получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за
свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из
темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках – Сумароков, Анна Бунина,
Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Баратынский…
Как восхитительны были их романтические виньетки, – лиры, урны, шлемы, венки, – их
шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство,
высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано! С этими томиками я пережил
все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки
утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине
чудодейственно. Если я читал: «На брань летит певец младой», или «Шуми, шуми с крутой
вершины, не умолкай, поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на
утренней заре я видел Нереиду», я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые
волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать …
Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из под моего собственного пера в это
же самое время!
И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была
простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней-ли было дело? Была она кроме
того неизменно весела, ласкова, очень добра, искренно и простодушно говорила мне: «Вы
мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства!» Загорелись эти чувства,
конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, – как только она, во всей
свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности,
вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции, в вигандовскую столовую, розово
озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще
холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно! Я уехал в
Батурине совершенно счастливый: на второй день святок Виганды должны были приехать к
нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем,
беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в
деревне, зимой, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А
вечером подъехали и другие гости и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним
усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало, – больше всего мужиками и бабами, –
мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженой
пробкой неизменные черные усики, – и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже
стояло в темноте несколько саней и розвальней, расселись и, смеясь, крича, под звон
колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И конечно, я очутился в
розвальнях с Анхен…
Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном
поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега
с низким небом, меж тем как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то
неведомых, ночных, зимних порождений! Как забыть снежный ночной полевой воздух,