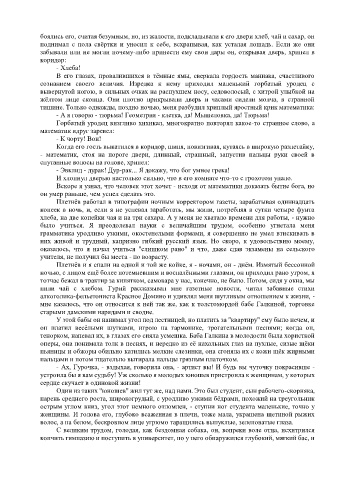Page 5 - Мои университеты
P. 5
боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он
поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они
забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары он, открывая дверь, хрипел в
коридор:
- Хлеба!
В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого
сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец с
вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на
жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной
тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:
- А я говорю - тюрьма! Геометрия - клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!
Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а
математик вдруг заревел:
- К чорту! Вон!
Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку,
- математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в
спутанные волосы на голове, хрипел:
- Эвклид - дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!
И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.
Вскоре я узнал, что человек этот хочет - исходя от математики доказать бытие бога, но
он умер раньше, чем успел сделать это.
Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать
копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта
хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, - нужно
было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня
грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в
них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему,
оказалось, что я начал учиться "слишком рано" и что, даже сдав экзамены на сельского
учителя, не получил бы места - по возрасту.
Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я - ночами, он - днём. Измятый бессонной
ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я
тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы
пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи
алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, -
мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке
старыми дамскими нарядами и сводне.
У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за "квартиру" ему было нечем, и
он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он,
тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой
оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки
пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными
пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.
- Ах, Гурочка, - вздыхая, говорила она, - артист вы! И будь вы чуточку покрасивше -
устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых
сердце скучает в одинокой жизни!
Один из таких "юношев" жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка,
парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник
острым углом вниз, угол этот немного отломлен, - ступни ног студента маленькие, точно у
женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих
волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.
С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился
кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и