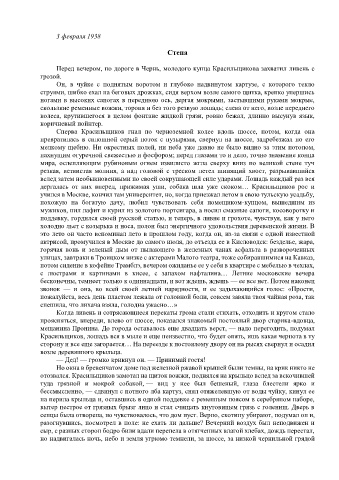Page 9 - Темные аллеи
P. 9
3 февраля 1938
Степа
Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с
грозой.
Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузе, с которого текло
струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись
ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые,
скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего
колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык,
коричневый пойнтер.
Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она
превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его
мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом,
пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца
мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч
резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся
вслед затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся
дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком… Красильщиков рос и
учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу,
похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из
мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и
поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него
холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В
это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной
актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара,
горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных
улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ,
потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожиданье ее у себя в квартире с мебелью в чехлах,
с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина… Летние московские вечера
бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет. Потом наконец
звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости,
пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так
спешила, что лихача взяла, голодна ужасно…»
Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало
проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца,
мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, — надо перегодить, подумал
Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту
сторону и все еще загорается… На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил
возле деревянного крыльца.
— Дед! — громко крикнул он. — Принимай гостя!
Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не
отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей
туда грязной и мокрой собакой, — вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и
бессмысленно, — сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее
на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе,
вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в
сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и,
разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и
сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал,
но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой