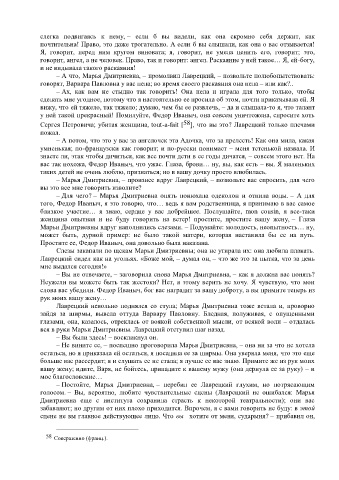Page 76 - Дворянское гнездо
P. 76
слегка подвигаясь к нему, – если б вы видели, как она скромно себя держит, как
почтительна! Право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается!
Я, говорит, перед ним кругом виновата; я, говорит, не умела ценить его, говорит; это,
говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит: ангел. Раскаяние у ней такое… Я, ей-богу,
и не видывала такого раскаяния!
– А что, Марья Дмитриевна, – промолвил Лаврецкий, – позвольте полюбопытствовать:
говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела – или как?..
– Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того только, чтобы
сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я
вижу, что ей тяжело, так тяжело; думаю, чем бы ее развлечь, – да и слышала-то я, что талант
у ней такой прекрасный! Помилуйте, Федор Иваныч, она совсем уничтожена, спросите хоть
58
Сергея Петровича; убитая женщина, tout-a-fait [ ], что вы это? Лаврецкий только плечами
пожал.
– А потом, что это у вас за ангелочек эта Адочка, что за прелесть! Как она мила, какая
умненькая; по-французски как говорит; и по-русски понимает – меня тетенькой назвала. И
знаете ли, этак чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, – совсем этого нет. На
вас так похожа, Федор Иваныч, что ужас. Глаза, брови… ну, вы, как есть – вы. Я маленьких
таких детей не очень люблю, признаться; но в вашу дочку просто влюбилась.
– Марья Дмитриевна, – произнес вдруг Лаврецкий, – позвольте вас спросить, для чего
вы это все мне говорить изволите?
– Для чего? – Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. – А для
того, Федор Иваныч, я это говорю, что… ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое
близкое участие… я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, mon cousin, я все-таки
женщина опытная и не буду говорить на ветер! простите, простите вашу жену, – Глаза
Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами. – Подумайте: молодость, неопытность… ну,
может быть, дурной пример: не было такой матери, которая наставила бы ее на путь.
Простите ее, Федор Иваныч, она довольно была наказана.
Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны; она не утирала их: она любила плакать.
Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой, – думал он, – что же это за пытка, что за день
мне выдался сегодня!»
– Вы не отвечаете, – заговорила снова Марья Дмитриевна, – как я должна вас понять?
Неужели вы можете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои
слова вас убедили. Федор Иваныч, бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из
рук моих вашу жену…
Лаврецкий невольно поднялся со стула; Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно
зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными
глазами, она, казалось, отреклась от воякой собственной мысли, от всякой воли – отдалась
вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил шаг назад.
– Вы были здесь! – воскликнул он.
– Не вините ее, – поспешно проговорила Марья Дмитриевна, – она ни за что не хотела
остаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще
больше вас рассердит; я и слушать ее не стала; я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих
вашу жену; идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу (она дернула ее за руку) – и
мое благословение…
– Постойте, Марья Дмитриевна, – перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим
голосом. – Вы, вероятно, любите чувствительные сцены (Лаврецкий не ошибался: Марья
Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности); они вас
забавляют; но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду: в этой
сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня? – прибавил он,
58 Совершенно (франц.).