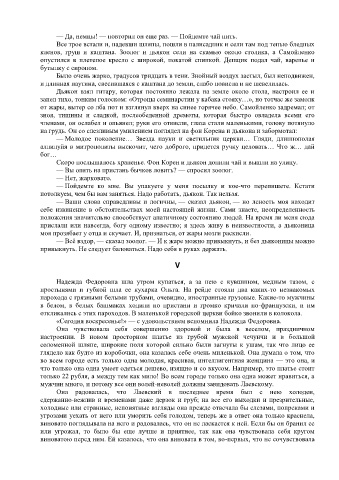Page 14 - Дуэль
P. 14
— Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить.
Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных
кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко
опустился в плетеное кресло с широкой, покатой спинкой. Денщик подал чай, варенье и
бутылку с сиропом.
Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен,
и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.
Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и
запел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху…», но тотчас же замолк
от жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от
зноя, тишины и сладкой, послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его
членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло
на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:
— Молодое поколение… Звезда науки и светильник церкви… Гляди, длиннополая
аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать… Что ж… дай
бог…
Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.
— Вы опять на пристань бычков ловить? — спросил зоолог.
— Нет, жарковато.
— Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати
потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.
— Ваши слова справедливы и логичны, — сказал дьякон, — но леность моя находит
себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность
положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда
прислали или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица
моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли.
— Всё вздор, — сказал зоолог. — И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно
привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.
V
Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с
простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых
парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины
в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им
откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.
«Сегодня воскресенье!» — с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.
Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом, праздничном
настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой
соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее
глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что
во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она, и
что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит
только 22 рубля, а между тем как мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а
мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.
Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден,
сдержанно-вежлив и временами даже дерзок и груб; на все его выходки и презрительные,
холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и
угрозами уехать от него или уморить себя голодом, теперь же в ответ она только краснела,
виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бранил ее
или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом
виноватою перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала