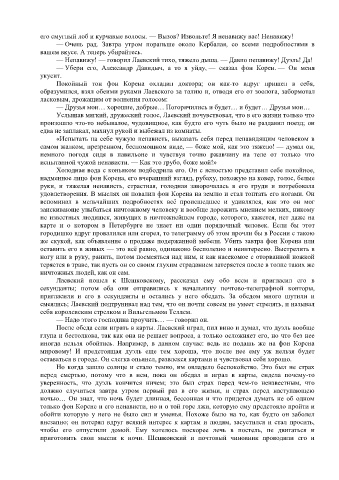Page 41 - Дуэль
P. 41
его смуглый лоб и курчавые волосы. — Вызов? Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!
— Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербалая, со всеми подробностями в
вашем вкусе. А теперь убирайтесь.
— Ненавижу! — говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. — Давно ненавижу! Дуэль! Да!
— Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, — сказал фон Корен. — Он меня
укусит.
Покойный тон фон Корена охладил доктора; он как-то вдруг пришел в себя,
образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал
ласковым, дрожащим от волнения голосом:
— Друзья мои… хорошие, добрые… Погорячились и будет… и будет… Друзья мои…
Услышав мягкий, дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что
произошло что-то небывалое, чудовищное, как будто его чуть было не раздавил поезд; он
едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты.
«Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в
самом жалком, презренном, беспомощном виде, — боже мой, как это тяжело! — думал он,
немного погодя сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что
испытанной чужой ненависти. — Как это грубо, боже мой!»
Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное,
надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые
руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная заворочалась в его груди и потребовала
удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он
вспоминал в мельчайших подробностях всё происшедшее и удивлялся, как это он мог
заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому
не известных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на
карте и о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек. Если бы этот
городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такою
же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корена или
оставить его в живых — это всё равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в
ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой
теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же
ничтожных людей, как он сам.
Лаевский пошел к Шешковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в
секунданты; потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы,
пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и
смеялись; Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл
себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем.
— Надо этого господина проучить… — говорил он.
После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще
глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее
иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае: ведь не подашь же на фон Корена
мировому! И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет
оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо.
Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх
перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то
уверенность, что дуэль кончится ничем; это был страх перед чем-то неизвестным, что
должно случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающею
ночью… Он знал, что ночь будет длинная, бессонная и что придется думать не об одном
только фон Корене и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти и
обойти которую у него не было сил и уменья. Похоже было на то, как будто он заболел
внезапно; он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить,
чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и
приготовить свои мысли к ночи. Шешковский и почтовый чиновник проводили его и