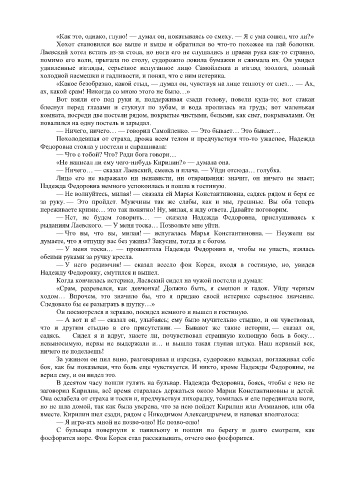Page 36 - Дуэль
P. 36
«Как это, однако, глупо! — думал он, покатываясь со смеху. — Я с ума сошел, что ли?»
Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки.
Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались и правая рука как-то странно,
помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел
удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный
холодной насмешки и гадливости, и понял, что с ним истерика.
«Какое безобразно, какой стыд, — думал он, чувствуя на лице теплоту от слез… — Ах,
ах, какой срам! Никогда со мною этого не было…»
Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вот стакан
блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь; вот маленькая
комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он
повалился на одну постель и зарыдал.
— Ничего, ничего… — говорил Самойленко. — Это бывает… Это бывает…
Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда
Федоровна стояла у постели и спрашивала:
— Что с тобой? Что? Ради бога говори…
«Не написал ли ему чего-нибудь Кирилин?» — думала она.
— Ничего… — сказал Лаевский, смеясь и плача. — Уйди отсюда… голубка.
Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения: значит, он ничего не знает;
Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную.
— Не волнуйтесь, милая! — сказала ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее
за руку. — Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь
переживаете кризис… это так понятно! Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим.
— Нет, не будем говорить… — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к
рыданиям Лаевского. — У меня тоска… Позвольте мне уйти.
— Что вы, что вы, милая! — испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы
думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с богом.
— У меня тоска… — прошептала Надежда Федоровна и, чтобы не упасть, взялась
обеими руками за ручку кресла.
— У него родимчик! — сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев
Надежду Федоровну, смутился и вышел.
Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал:
«Срам, разревелся, как девчонка! Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным
ходом… Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение.
Следовало бы ее разыграть в шутку…»
Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную.
— А вот и я! — сказал он, улыбаясь; ему было мучительно стыдно, и он чувствовал,
что и другим стыдно в его присутствии. — Бывают же такие истории, — сказал он,
садясь. — Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку…
невыносимую, нервы не выдержали и… и вышла такая глупая штука. Наш нервный век,
ничего не поделаешь!
За ужином он пил вино, разговаривал и изредка, судорожно вздыхал, поглаживал себе
бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не
верил ему, и он видел это.
В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не
заговорил Кирилин, всё время старалась держаться около Марии Константиновны и детей.
Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги,
но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кирилин или Ачмианов, или оба
вместе. Кирилин шел сзади, рядом с Никодимом Александрычем, и напевал вполголоса:
— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!
С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как
фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится.