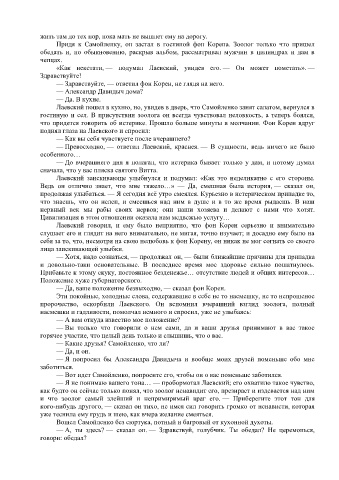Page 39 - Дуэль
P. 39
жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.
Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел
обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в
чепцах.
«Как некстати, — подумал Лаевский, увидев его. — Он может пометать». —
Здравствуйте!
— Здравствуйте, — ответил фон Корен, не глядя на него.
— Александр Давидыч дома?
— Да. В кухне.
Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в
гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся,
что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг
поднял глаза на Лаевского и спросил:
— Как вы себя чувствуете после вчерашнего?
— Превосходно, — ответил Лаевский, краснея. — В сущности, ведь ничего не было
особенного…
— До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал
сначала, что у вас пляска святого Витта.
Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал: «Как это неделикатно с его стороны.
Ведь он отлично знает, что мне тяжело…» — Да, смешная была история, — сказал он,
продолжая улыбаться. — Я сегодня всё утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то,
что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш
нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами что хотят.
Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу…
Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно
слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает; и досадно ему было на
себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего
лица заискивающей улыбки.
— Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка
и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось.
Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье… отсутствие людей и общих интересов…
Положение хуже губернаторского.
— Да, ваше положение безвыходно, — сказал фон Корен.
Эти покойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошеное
пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный
насмешки и гадливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь:
— А вам откуда известно мое положение?
— Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое
горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас.
— Какие друзья? Самойленко, что ли?
— Да, и он.
— Я попросил бы Александра Давидыча и вообще моих друзей поменьше обо мне
заботиться.
— Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.
— Я не понимаю вашего тона… — пробормотал Лаевский; его охватило такое чувство,
как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним
и что зоолог самый злейший и непримиримый враг его. — Приберегите этот тон для
кого-нибудь другого, — сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая
уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.
Вошел Самойленко без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты.
— А, ты здесь? — сказал он. — Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься,
говори: обедал?