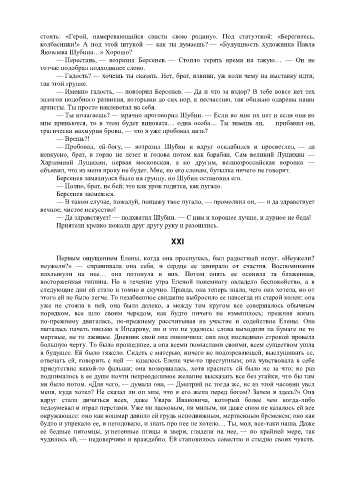Page 48 - Накануне
P. 48
стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь,
колбасники!» А под этой штукой — как ты думаешь? — «Будущность художника Павла
Яковлева Шубина…» Хорошо?
— Перестань, — возразил Берсенев. — Стоило терять время на такую… — Он не
тотчас подобрал подходящее слово.
— Гадость? — хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти,
так этой группе.
— Именно гадость, — повторил Берсенев. — Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех
залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастию, так обильно одарены наши
артисты. Ты просто наклеветал на себя.
— Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин. — Если во мне их нет и если они ко
мне привьются, то в этом будет виновата… одна особа… Ты знаешь ли, — прибавил он,
трагически нахмурив брови, — что я уже пробовал пить?
— Врешь?!
— Пробовал, ей-богу, — возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел, — да
невкусно, брат, в горло не лезет и голова потом как барабан. Сам великий Лущихин —
Харлампий Лущихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка —
объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.
Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.
— Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.
Берсенев засмеялся.
— В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, — промолвил он, — и да здравствует
вечное, чистое искусство!
— Да здравствует! — подхватил Шубин. — С ним и хорошее лучше, и дурное не беда!
Приятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.
XXI
Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели?
неужели?» — спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастия. Воспоминания
нахлынули на нее… она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная,
восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в
следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от
этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она
уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным
порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь
по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она
пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то
мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела
большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла
в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее,
отвечать ей, говорить с ней — казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе
присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз
поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там
ни было потом. «Для чего, — думала она, — Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел
меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед богом? Зачем я здесь?» Она
вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо
недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все
окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как
будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело… Ты, мол, все-таки наша. Даже
ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее, — по крайней мере, так
чудилось ей, — недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств.