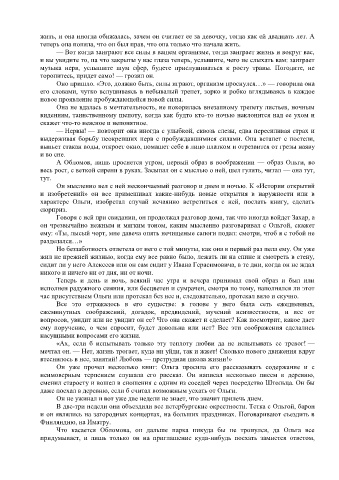Page 132 - Обломов
P. 132
жить, и она иногда обижалась, зачем он считает ее за девочку, тогда как ей двадцать лет. А
теперь она поняла, что он был прав, что она только что начала жить.
— Вот когда заиграют все силы в вашем организме, тогда заиграет жизнь и вокруг вас,
и вы увидите то, на что закрыты у вас глаза теперь, услышите, чего не слыхать вам: заиграет
музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы. Погодите, не
торопитесь, придет само! — грозил он.
Оно пришло. «Это, должно быть, силы играют, организм проснулся…» — говорила она
его словами, чутко вслушиваясь в небывалый трепет, зорко и робко вглядываясь в каждое
новое проявление пробуждающейся новой силы.
Она не вдалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным
видениям, таинственному шепоту, когда как будто кто-то ночью наклонится над ее ухом и
скажет что-то неясное и непонятное.
— Нервы! — повторит она иногда с улыбкой, сквозь слезы, едва пересиливая страх и
выдерживая борьбу неокрепших нерв с пробуждавшимися силами. Она встанет с постели,
выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком и отрезвится от грезы наяву
и во сне.
А Обломов, лишь проснется утром, первый образ в воображении — образ Ольги, во
весь рост, с веткой сирени в руках. Засыпал он с мыслью о ней, шел гулять, читал — она тут,
тут.
Он мысленно вел с ней нескончаемый разговор и днем и ночью. К «Истории открытий
и изобретений» он все примешивал какие-нибудь новые открытия в наружности или в
характере Ольги, изобретал случай нечаянно встретиться с ней, послать книгу, сделать
сюрприз.
Говоря с ней при свидании, он продолжал разговор дома, так что иногда войдет Захар, а
он чрезвычайно нежным и мягким тоном, каким мысленно разговаривал с Ольгой, скажет
ему: «Ты, лысый чорт, мне давеча опять нечищеные сапоги подал: смотри, чтоб я с тобой не
разделался…»
Но беззаботность отлетела от него с той минуты, как она в первый раз пела ему. Он уже
жил не прежней жизнью, когда ему все равно было, лежать ли на спине и смотреть в стену,
сидит ли у него Алексеев или он сам сидит у Ивана Герасимовича, в те дни, когда он не ждал
никого и ничего ни от дня, ни от ночи.
Теперь и день и ночь, всякий час утра и вечера принимал свой образ и был или
исполнен радужного сияния, или бесцветен и сумрачен, смотря по тому, наполнялся ли этот
час присутствием Ольги или протекал без нее и, следовательно, протекал вяло и скучно.
Все это отражалось в его существе: в голове у него была сеть ежедневных,
ежеминутных соображений, догадок, предвидений, мучений неизвестности, и все от
вопросов, увидит или не увидит он ее? Что она скажет и сделает? Как посмотрит, какое даст
ему поручение, о чем спросит, будет довольна или нет? Все эти соображения сделались
насущными вопросами его жизни.
«Ах, если б испытывать только эту теплоту любви да не испытывать ее тревог! —
мечтал он. — Нет, жизнь трогает, куда ни уйди, так и жжет! Сколько нового движения вдруг
втеснилось в нее, занятий! Любовь — претрудная школа жизни!»
Он уже прочел несколько книг: Ольга просила его рассказывать содержание и с
неимоверным терпением слушала его рассказ. Он написал несколько писем в деревню,
сменил старосту и вошел в сношения с одним из соседей через посредство Штольца. Он бы
даже поехал в деревню, если б считал возможным уехать от Ольги.
Он не ужинал и вот уже две недели не знает, что значит прилечь днем.
В две-три недели они объездили все петербургские окрестности. Тетка с Ольгой, барон
и он являлись на загородных концертах, на больших праздниках. Поговаривают съездить в
Финляндию, на Иматру.
Что касается Обломова, он дальше парка никуда бы не тронулся, да Ольга все
придумывает, и лишь только он на приглашение куда-нибудь поехать замнется ответом,