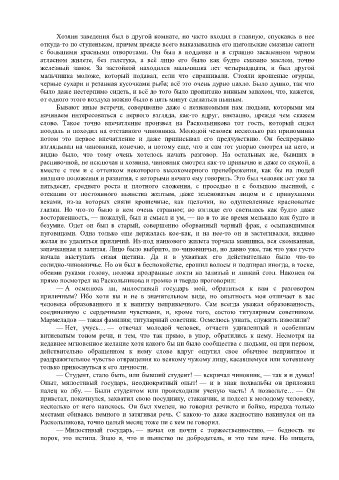Page 21 - Преступление и наказание
P. 21
Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее
откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги
с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном
атласном жилете, без галстука, а всё лицо его было как будто смазано маслом, точно
железный замок. За застойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой
мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы,
черные сухари и резанная кусочками рыба; всё это очень дурно пахло. Было душно, так что
было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным запахом, что, кажется,
от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.
Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы
начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем
слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел
поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал
потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно
взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и
видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в
распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а
вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей
низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за
пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с
отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими
веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые
глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже
восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и
безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися
пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо
желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная,
запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо
начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то
солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске,
обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он
прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил:
— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором
приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас
человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность,
соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником.
Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?
— Нет, учусь… — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным
витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на
недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом,
действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и
раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему
только прикоснуться к его личности.
— Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал чиновник, — так я и думал!
Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! — и в знак похвальбы он приложил
палец ко лбу. — Были студентом или происходили ученую часть! А позвольте… — Он
привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку,
несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только
местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностию накинулся он на
Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.
— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностию, — бедность не
порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета,