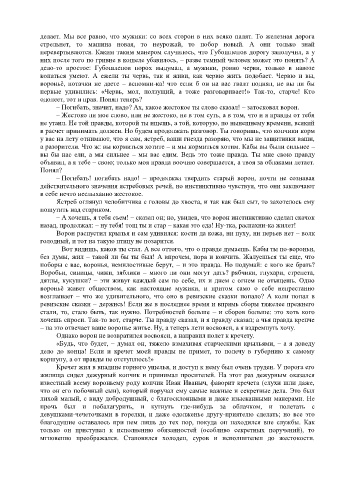Page 184 - СКАЗКИ
P. 184
делает. Мы все равно, что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога
стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай
перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у
них после того по гривне в кошеле убавилось, – разве темный человек может это понять? А
дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе
копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы,
вороньё, потачки не даете – вспомни-ка! что если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы
первые удивились: «Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!» Так-то, старче! Кто
одолеет, тот и прав. Понял теперь?
– Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! – затосковал ворон.
– Жестоко ли мое слово, или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя
не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий
в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм
у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши,
а разорители. Что ж: вы кормиться хотите – и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее –
вы бы нас ели, а мы сильнее – мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду
объявил, а я тебе – свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает.
Понял?
– Погибать! погибать надо! – продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая
действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают
в себе нечто неслыханно жестокое.
Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему
пошутить над стариком.
– А хочешь, я тебя съем! – сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок
назад, продолжал: – ну тебя! тощ ты и стар – какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!
Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет – волк
голодный, и тот на такую птицу не позарится.
– Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи,
без думы, жил – такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что
поборы с вас, воронья, немилостивые берут, – и это правда. Но подумай: с кого же брать?
Воробьи, синицы, чижи, зяблики – много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета,
дятлы, кукушки? – эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно
вороньё живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно
возглашает – что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в
ревизские сказки – держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего
стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше – и сборов больше: это хоть кого
хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче
– на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.
Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.
«Будь, что будет, – думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, – а я доведу
дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому
коршуну, а от правды не отступлюсь!»
Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его
жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался
известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже,
что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был
лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не
прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с
девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но все это
благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как
только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то
мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости.